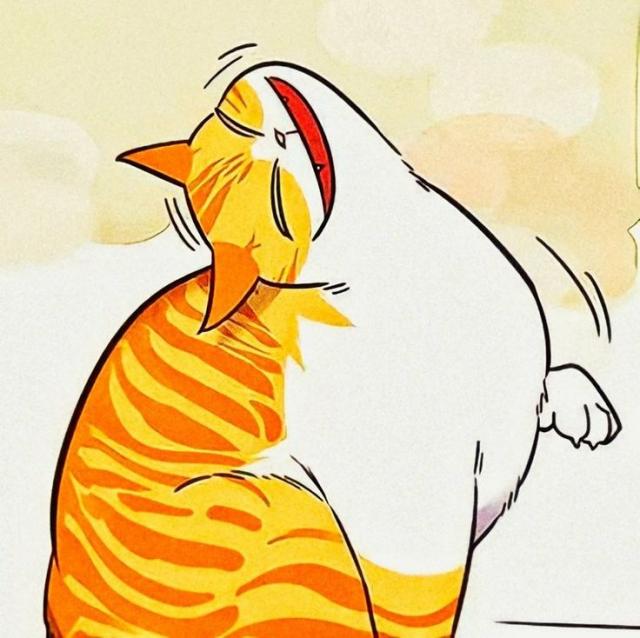Тахтеев байкал море загадок
В.В.Тахтеев. Море загадок. Рассказы об озере Байкал. — Иркутск: Изд-во ИГУ, 2001. — 160 с., твердая обложка.
Источник
Тахтеев байкал море загадок
Иллюзия бессмертия [СИ]
Фанаты сериала Чужестранка мимо обложки однозначно не пройдут )) Очень неплохо . Стройный достаточно динамичный сюжет. Можно почитать .
Кафе «Золотая чешуйка» или Окрошка для дракоши (СИ)
Во-первых, героиня из разряда везучих персонажей: и магию сильную получила, и родителя нашла, и её всегда спасут в критический момент. Только вот с глупостью она. Во-вторых, в начале очень бесит поведение
Все, чего я никогда не хотела (ЛП)
Поначалу роман даже нравился. Но чем дальше, тем более события становились «театральными». В то же время, вполне приемлемое чтение, написано с юмором. Подросткам возможно понравится больше.
Дважды укушенная (ЛП)
Не могу найти продолжение этой книги . Укушенной королём.
Победа для Гладиатора
Очень понравилась книжка. Читалось легко, история словно сказка — местами смешила, иногда напрягала. Спосибо автору!
Укушенная королём (ЛП)
Коротко, может даже слишком. Получилось немного скомкано и без кучи эпилогов, как в классической Райли. Где-то на 3,5.
Находка Шторма (ЛП)
Мне понравилось (´ ▽ `).。o♡ Начало немного эмоциональное: так и хотелось обнять главного героя и утешить. Пусть они и лгали ему, но эта ложь была с добрых побуждений. А за то, как героиня с пониманием
Море загадок. Рассказы об озере Байкал
Рейтинг: 0.0/5 (Всего голосов: 0)
Аннотация
Источник
Тахтеев байкал море загадок
Иллюзия бессмертия [СИ]
Фанаты сериала Чужестранка мимо обложки однозначно не пройдут )) Очень неплохо . Стройный достаточно динамичный сюжет. Можно почитать .
Кафе «Золотая чешуйка» или Окрошка для дракоши (СИ)
Во-первых, героиня из разряда везучих персонажей: и магию сильную получила, и родителя нашла, и её всегда спасут в критический момент. Только вот с глупостью она. Во-вторых, в начале очень бесит поведение
Все, чего я никогда не хотела (ЛП)
Поначалу роман даже нравился. Но чем дальше, тем более события становились «театральными». В то же время, вполне приемлемое чтение, написано с юмором. Подросткам возможно понравится больше.
Дважды укушенная (ЛП)
Не могу найти продолжение этой книги . Укушенной королём.
Победа для Гладиатора
Очень понравилась книжка. Читалось легко, история словно сказка — местами смешила, иногда напрягала. Спосибо автору!
Укушенная королём (ЛП)
Коротко, может даже слишком. Получилось немного скомкано и без кучи эпилогов, как в классической Райли. Где-то на 3,5.
Находка Шторма (ЛП)
Мне понравилось (´ ▽ `).。o♡ Начало немного эмоциональное: так и хотелось обнять главного героя и утешить. Пусть они и лгали ему, но эта ложь была с добрых побуждений. А за то, как героиня с пониманием
Море загадок. Рассказы об озере Байкал
Рейтинг: 0.0/5 (Всего голосов: 0)
Аннотация
Источник
Тахтеев байкал море загадок
Иллюзия бессмертия [СИ]
Фанаты сериала Чужестранка мимо обложки однозначно не пройдут )) Очень неплохо . Стройный достаточно динамичный сюжет. Можно почитать .
Кафе «Золотая чешуйка» или Окрошка для дракоши (СИ)
Во-первых, героиня из разряда везучих персонажей: и магию сильную получила, и родителя нашла, и её всегда спасут в критический момент. Только вот с глупостью она. Во-вторых, в начале очень бесит поведение
Все, чего я никогда не хотела (ЛП)
Поначалу роман даже нравился. Но чем дальше, тем более события становились «театральными». В то же время, вполне приемлемое чтение, написано с юмором. Подросткам возможно понравится больше.
Дважды укушенная (ЛП)
Не могу найти продолжение этой книги . Укушенной королём.
Победа для Гладиатора
Очень понравилась книжка. Читалось легко, история словно сказка — местами смешила, иногда напрягала. Спосибо автору!
Укушенная королём (ЛП)
Коротко, может даже слишком. Получилось немного скомкано и без кучи эпилогов, как в классической Райли. Где-то на 3,5.
Находка Шторма (ЛП)
Мне понравилось (´ ▽ `).。o♡ Начало немного эмоциональное: так и хотелось обнять главного героя и утешить. Пусть они и лгали ему, но эта ложь была с добрых побуждений. А за то, как героиня с пониманием
Море загадок. Рассказы об озере Байкал
Рейтинг: 0.0/5 (Всего голосов: 0)
Аннотация
Источник
«В. В. Тахтеев МОРЕ ЗАГАДОК Рассказы об озере Байкал Издательство Иркутского государственного университета УДК 282.256.341 (571.5) Книга . »
МОРЕ ЗАГАДОК
Рассказы об озере Байкал
Издательство Иркутского государственного университета
УДК 282.256.341 (571.5) Книга печатается на средства
ББК Е081+Е685] (2p54) гранта № IO0043-O2 «Научная смеТ24 на. Пропаганда и поддержка байкаловедения в среде школьников, студентов и молодых ученых» Программы ГЭФ «Сохранение биоразнообразия Российской Федерации»
Р е ц е н з е н т ы: канд. биол. наук, ст. научн. сотр. Н.А. Бондаренко;
руководитель экспериментальной площадки Гимназии № 2 г. Иркутска, директор эколого-валеологической полевой школы на Байкале Л.Г. Чикалина Тахтеев В.В. Море загадок. Рассказы об озере Байкал. – Т 24 Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2001. – 152 с.
В книге в популярной форме рассказывается о физико-географических особенностях Байкала, его живой природе, истории научных исследований озера и современных проблемах, над которыми работают учёные-байкаловеды. Издание может использоваться при подготовке к конкурсам и олимпиадам по биологии, экологии, байкаловедению.
Для среднего школьного возраста.
ББК Е081+Е685] (2p54) ISBN 5-7430-0628-8 © Тахтеев В.В., 2001 © Оформление обложки Беседин О.В., 2001
ПРЕДИСЛОВИЕ
Каждый, кто добирался до Байкала по водам Иркутского водохранилища, помнит волнующий и торжественный момент, когда горы впереди раздвигаются, и теплоход выходит из речного фарватера на бескрайний байкальский простор.
Каждый, кто хоть немного читал о Байкале, помнит, с каким удивлением он открывал для себя неповторимость его животного и растительного мира, глубочайшую древность озера и бездонность его чаши, заполненной чистейшей пресной водой.
С этого, наверное, и начинается увлечение Байкалом, нередко остающееся на всю жизнь. Меняются времена, исторические эпохи, а байкальские путеводные звёзды всё горят так же ярко для тех, кто хочет познать его бесчисленные тайны. Или хотя бы прикоснуться к ним.
Если сейчас, дорогой читатель, ты ещё в юном возрасте, то у тебя есть возможность избрать прекрасную дальнейшую судьбу: заняться изучением Байкала или охраной его красоты.
А книжка, которую ты открыл, – это попытка рассказать о некоторых байкальских тайнах. Рассказать о труде учёных, эти тайны разгадывающих. Показать, что познание Байкала помимо чисто научной, рациональной стороны имеет ещё и духовную сторону – эта работа обогащает внутренний мир человека.
Я не хотел делать из своей книжки нечто вроде миниатюрной энциклопедии. Есть издания, в которых точно и скрупулёзно расписаны все имеющиеся на сегодняшний день данные по тому или иному вопросу, касающемуся жизни Байкала. Да и невозможно рассказать обо всех проблемах, которыми занимается байкаловедение, в небольшом популярном издании, адресованном школьникам. Моя главная задача была – заинтересовать вас. А если возникнет желание двигаться дальше, узнать больше – для начала загляните в те книги, список которых вы найдёте здесь, на последних страницах.
Ваши замечания и пожелания можно направлять по адресу: 664003, Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5, Иркутский госуниверситет, кафедра зоологии беспозвоночных и гидробиологии, Тахтееву Вадиму Викторовичу.
ГОЛУБОЕ ОКО СИБИРИ
Много предстоит увидеть путешественнику, отправляющемуся на поезде из Москвы на восток нашей огромной страны. Три дня летят вагоны по рельсам, оставляя позади бескрайние поля, деревни с квадратиками ухоженных огородов, леса и болота, реки и ручьи. Русская природа, воспетая поэтами, не может не трогать человеческое сердце, не вызывать раздумий – о жизни, об этой прекрасной земле, о твоём месте на ней.
Но с особым нетерпением и трепетом ждут пассажиры поезда день четвёртый, когда холмы становятся все более высокими, леса на их склонах всё более глухими и загадочными, а где-то справа по ходу состава начинают порой маячить дальние неясные силуэты высоких гор – Восточного Саяна. И настроение становится праздничным, потому что приближается Байкал. Пройдет ещё немного времени, и поезд, миновав Иркутск – «столицу Восточной Сибири», – взберётся на поросший тайгой Андриановский перевал и покатится вдоль крутого склона вниз, туда, где в величавом горном обрамлении лежит глубочайшее озеро мира.
Великолепно это зрелище – голубая водная гладь перед стоящими в молчаливой страже горными вершинами, присыпанными сверху снегом, как сахарной пудрой. И потому даже те несколько часов, которые поезд идёт вдоль байкальского берега, оставляют незабываемое впечатление. И затаённую в душе мечту – как-нибудь вновь встретиться с Байкалом, одним из чудес света.
Суров и величав Байкал. Много хранит он тайн и загадок. Не каждому их открывает. Нужно быть хорошо знакомым с ним, иметь светлую голову и чистое сердце, чтобы он приоткрыл свои секреты. О чем шумит вековая байкальская тайга? Какие тайны стерегут неприступные горы? Какие диковинные животные населяют почти бездонные байкальские пучины?
Что о далеком прошлом могут рассказать спокойно лежащие на его дне илы? Только одни вопросы могли бы занять многие страницы этой книжки. А ведь до сих пор нет на многие из них однозначных ответов, и они попрежнему вызывают горячие споры учёных. Откуда взялся в Байкале пресноводный тюлень – знаменитая нерпа? Есть ли в озере животные морского происхождения? Станет ли Байкал в будущем новым океаном? И чтобы хотя бы отчасти решить эти интереснейшие проблемы, стремятся к Байкалу ученые, организуют экспедиции, устраивают научные конференции, на которых мы регулярно узнаем что-то новое об этом озере. И нет познанию конца.
Велика и щедра сибирская земля. Но даже для сибирского края Байкал и его окрестности можно назвать уникальным местом. Взгляните на карту – среди бескрайних просторов континента узкое, изящно изогнутое голубое пятнышко в виде полумесяца. Это Байкал. И если озёра называют порой голубыми глазами Земли, то в первую очередь это справедливо по отношению к нему – гордости России и самому глубокому в мире «колодцу» с чистейшей питьевой водой.
Ландшафт – таким немецким по происхождению словом географы называют крупные природные комплексы. Огромные пространства, занятые тайгой, составляют, к примеру, таёжный ландшафт. Байкал по праву можно сравнить с целым музеем ландшафтов. Здесь вы найдете всего понемногу – и песчаные пустыни, и раздольные степи, и суровую тундру, и прекрасные высокогорные альпийские луга. А само озеро удивительно напоминает море – огромными глубинами, жестокими штормами, крутыми скалистыми берегами и даже внешним обликом животных, населяющих его воды. Да и не принято было среди местных жителей в прежние времена называть Байкал озером, дабы не прогневить его. Бирюзовая водная гладь нередко обманчива, и горе тому, кто на лодке или даже на катере оказывался застигнутым внезапным штормом.
Впрочем, и в наше время есть люди, которые считают Байкал живым, одушевлённым. Огромное водное тело со сложно организованными течениями, говорят, при желании может дать ответ на мысленно заданный ему вопрос, подарить импульс животворящей энергии. Оно похоже на колоссальный мозг, который переваривает всю поступающую в него информацию, быстро реагирует на загрязнение, вызываемое деятельностью людей, и как может, избавляет себя от его пагубного действия.
Непохоже на правду? Кто знает… Выйдите в одиночку ранним утром, на рассвете, или же в багряном свете вечернего уходящего солнца на берег Байкала. Прислушайтесь к божественной тишине или к успокаивающему равномерному плеску волн. И вполне может быть, он вам о чёмнибудь поведает.
Именно тому, что рассказал Байкал давно изучающим его ученым, и посвящена эта книжка.
«А ГЛУБИНА ЕГО ВЕЛИКАЯ…»
Именно так написал более трех веков назад русский посол в Китае Николай Спафарий, чей путь на восток лежал мимо Байкала. Именно глубина сразу же привлекает внимание на этом необычном озере. С глубокой древности большие, бездонные глубины будили в людях таинственное благоговение перед тем миром, который лежит далеко там, внизу, под огромной водной толщей. И верили люди, что адские пучины морей и океанов населены духами и чудовищами. Такое же отношение было и к Байкалу. Населявшие его берега народы были убеждены, что там, в его глубине, обитают грозные духи, в чьей власти находятся ветра, шторма, рыбные запасы. Именно там обитает могущественный Бурхан – бог Байкала. Он может помочь рыбакам с погодой, а может и навлечь грозные волны; может одарить рыбой их сети, а может и оставить ни с чем. Один из красивейших мысов Байкала, расположенный на крупнейшем острове Ольхон, и поныне носит это священное имя.
Долгое время максимальную глубину озера вообще не могли измерить – так велика она. Потом выяснилось, что Байкал лежит не в одной, а сразу в трёх котловинах, и в каждой из них свой предел глубин. По расположению их назвали Северной, Средней и Южной. И разделены эти котловины районами, где глубины относительно невелики. Так, от самого северного конца острова Ольхон по направлению на северо-восток пролегает подводный Академический хребет. Так его назвали в честь Академии наук, ученые которой неутомимо и самозабвенно исследовали Байкал. Гребень этого хребта лежит на довольно небольшой (по байкальским меркам, конечно) глубине – около 250-300 метров. А самые высокие его «вершины»
мы можем увидеть, не погружаясь под воду; они поднимаются над её поверхностью в виде четырех небольших островов, названных Ушканьими.
Один из них довольно высокий, в виде горы с плоской скошенной вершиной; он так и называется – Большой Ушканий остров. Три других очень низкие и носят потому имя Малых Ушканьих.
Академический хребет – это порог из Северной котловины в Среднюю. Есть порог и между Средней и Южной впадинами. Это район, прилегающий к устью реки Селенги – самого крупного притока озера. Там тоже имеется скрытый от глаз хребет, расположенный ниже уровня воды. Только идет он не поперёк Байкала, а практически … повдоль его! Так какой же он тогда порог? – спросите вы. Но дело в том, что и сам этот хребет, и прилегающие к нему пространства обильно засыпаны тем материалом, что за длительный период своего существования вынесла в Байкал Селенга.
Начинаясь далеко от него, на территории Монголии, эта крупная река на протяжении более тысячи километров собирает с окружающей суши множество мельчайших илистых частиц. Смывает их и несет в Байкал. Вся эта муть и взвесь отлагается в конце концов на его дне и образует донные отложения и осадочные породы.
И настолько много взвешенного в воде материала вынесла Селенга в свое устье, что образовала широкую полукруглую дельту и просторное мелководье в Байкале, в которое она изливается через многочисленные протоки и рукава. И даже у противоположного берега Байкала, напротив села Бугульдейка глубины достигают самое большее 400 метров. Именно эти выносы реки Селенги и образовали порог между Южным и Средним Байкалом и буквально похоронили под собой подводный хребет высотой около 3-5 км, подобно тому, как когда-то разъярившийся вулкан Везувий засыпал во время извержения своим пеплом древний город Помпеи.
Но одна из «вершин» этих захороненных гор даёт о себе знать. Немного южнее от дельты Селенги среди Байкала лежит мелководное поднятие – Посольская банка, глубина на которой составляет всего-навсего 30 метров. Со всех сторон эту банку окружают глубины в несколько сот метров.
Вы, наверное, давно хотите спросить: ну, а всё-таки, какая же наибольшая глубина Байкала? И я наверняка вас удивлю, ответив, что точно этого не знает никто. В разных книгах можно встретить разные значения.
И, как оказывается, ни одна из них не может считаться точной. Можно лишь сказать, что глубины в Северной впадине достигают около 900 метров, в южной превышают 1400. Ну, а Средняя – самая глубоководная – глубже 1600 метров.
Всё дело в том, что ни один имеющийся на сегодняшний день метод не позволяет измерять подобные глубины с точностью до метра. В своё время экспедиция под руководством Г.Ю. Верещагина, одного из известнейших лимнологов, при промерах тросом обнаружила напротив мыса Ухан, что на восточной стороне острова Ольхон, глубину 1749 метров. Однако впоследствии Верещагин сам сомневался в правильности этих промеров и считал, что их нужно повторить. С одной стороны, трос длиной более километра, спускаемый за борт, провисает и удлиняется под собственной тяжестью. С другой, спуск и подъем троса – дело достаточно долгое, и за время этой операции судно успевает снести ветром или течением, трос ложится на дно не вертикально, а под углом и опять-таки «обманывает»
Позднее глубины начали измерять с помощью эхолота. Это прибор, который посылает на дно водоема звуковой сигнал и принимает его отражение (эхо). По времени, затраченном звуком на «прогулку» до дна и обратно, прибор автоматически рассчитывает глубину. Участникам экспедиции не нужно уже крутить барабан с тросом; эхолот постоянно показывает глубину в метрах, даже на ходу судна; если надо, и профиль дна нарисует на пройденном участке. Вот только одна беда – и он даёт погрешность.
Скорость звука не строго постоянна, она зависит от температуры воды, а значит, от её плотности, а также от наличия так называемых звукорассеивающих слоев. Такие слои могут быть образованы скоплениями обитающих в толще вод организмов.
В 1959 году экспедиция под руководством Б.Ф. Лута подробно обследовала с помощью эхолота Средний Байкал напротив Ольхона. Напротив мыса Ижимей была измерена глубина 1620 м, которая и считалась долгое время максимальной глубиной Байкала. Затем внесли поправку – 1637 м. Однако при этом как-то выпало из внимания, что на таких глубинах погрешность измерения эхолотом составляет более 100 метров!
Я помню, как мы в экспедициях не однажды пересекали район максимальных глубин и даже брали там пробы грунта со дна. Теплоход идет вдоль крутого восточного ольхонского берега. Непрерывно работает эхолот, рисует на бумаге всё, что ему удалось «увидеть» внизу. Почти ровная поверхность дна. Скопления рыбы и планктона в толще вод на разных глубинах выглядят в виде тонкой штриховки на бумаге. А цифровой датчик постоянно показывает измеренную глубину. Мелькают числа: 1615, 1670, 1712, 1680… Человек непосвящённый сразу бы вскричал: «Открытие!». Но мы знаем, что умный прибор может нас невольно дезинформировать. И спокойно работаем дальше.
«Как же так?» – скажете Вы. – «А если нас самих спросят, какая наибольшая глубина Байкала, что же нам ответить?» Ладно, дам вам ответ немного поточнее. В начале 90-х годов подводный обитаемый аппарат «Пайсис» достиг в Средней впадине глубины 1640 м (как предполагалось, максимальной). Находившийся на его борту наблюдатель отметил, что слабый уклон дна вниз идёт и дальше. Так что можно считать, что реально существующая глубина Байкала во всяком случае несколько превышает 1640 м.
ЧТО НИЖЕ ДНА?
Возможно, вы уже догадались, что дно самого озера еще не является истинным, или коренным, дном байкальской впадины. Река Селенга «закопала» своими взвешенными в воде выносами целый хребет высотой в несколько километров. Но в Байкал впадает много рек, и есть среди них довольно крупные – такие как Снежная, Турка, Баргузин, Верхняя Ангара, Кичера, Тыя. Все они выносят массу взвешенных частиц, которые могут переноситься течениями на достаточно большие расстояния, но рано или поздно оседают на дно. Селевые грязекаменные потоки, срывающиеся со склонов гор в периоды сильных и затяжных дождей, врываются в озеро, сметая всё на своем пути и устремляясь с огромной скорости ко дну. Эти потоки также несут в котловину огромное количество мути и даже более крупных частиц. Так формируются донные отложения, которые представляют поистине огромную ценность для учёных, изучающих озеро: в них хранится зашифрованная летопись Байкала, его «биография» за всю его длительную жизнь. Впрочем, мы ещё вернемся к этому.
Грунты, которые простираются по дну Байкала, самые разнообразные. У берегов, там, где бушуют волны, обычно можно увидеть каменистую полосу из гальки, валунов и даже огромных глыб. Чуть глубже, начиная примерно с 5 метров, где влияние волнения становится значительно слабее, получают распространение пески; ещё глубже (часто на 15-20 м или ниже) пески становятся заиленными и постепенно переходят в мягкие илы.
Что называется илом? Это множество мельчайших микроскопических частиц, диаметр которых не превышает 0,1 миллиметра. Именно илы занимают большую часть поверхности дна Байкала. Почти ровная коричневая пустыня, несущая порою волнистые следы глубинных течений – таким предстало ложе дна озера взору акванавтов, совершавших погружения на большие глубины. Огромные пространства илов.
Грунты нередко не залеживаются неизменно в одном месте. Волны во время сильных штормов могут сильно преображать облик береговых пляжей, размывая одни участки и намывая настоящие галечные валы на других. Если вы бывали в поселке Хужир – «столице» Ольхона – вы наверняка обратили внимание на рыбацкий причал, постоянно замываемый с одной стороны песками, что доставляет рыбакам лишние хлопоты. Песок, взмученный волнами, переносится затем течениями вдоль берегов и отлагается иногда в нежелательных местах, как у того причала, преградившего путь потоку переносимых отложений.
Гораздо тяжелее могут быть последствия, если благодаря размыву берега разрушается находящаяся на нём железнодорожная насыпь. В таких случаях постоянно требуются укрепительные работы.
Да и ниже зоны влияния прибоя нет на дне вечного покоя: в одних местах пески и илы размываются и переносятся туда, куда заблагорассудится старику Байкалу; в других, напротив, они намываются; в третьих происходит просто медленное тихое сползание толщи ила вниз по подводному склону. Он рассечён глубокими и нередко узкими ложбинами – каньонами, которые улавливают наносы, влекомые течениями, и отправляют их прямиком вниз, на адские глубины. Местами на склоне, там, где его крутизна очень велика, донные отложения вообще не задерживаются, и на поверхность дна выходит коренная порода – скала. Такие подводные скалы таят в себе одну из неразрешенных загадок Байкала. Какие животные населяют их? Об этом известно крайне мало, поскольку очень трудно собрать материал из таких мест.
Итак, донные отложения формируются, размываются и переотлагаются, «пропахиваются» донными организмами, населяющими их верхний слой, но рано или поздно находят покой, захороненные сверху более молодыми слоями илов и песков. В них начинаются химические реакции, постепенно превращающие донные отложения в осадочные породы. Поверхность дна может местами покрываться твёрдой корочкой, состоящей из соединений железа и марганца.
В итоге осадочные породы непрерывно накапливаются в котловине озера и достигают толщины в десятки, сотни и даже тысячи метров. Онито и скрывают надёжно коренное скалистое дно Байкала, которое лежит на глубинах 3-5 км. И мы так отвечаем на стоящий в заголовке вопрос: ниже уровня дна находится мощная толща донных осадков, накапливавшаяся миллионы лет в байкальских и даже добайкальских условиях.
БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА
Байкал отличается от большинства других озёр не только своим «морским» обликом, но и происхождением. Он принадлежит к очень малочисленной группе так называемых древних озёр. Если обычные мелководные озёрные водоемы живут, как правило, 10-30 тысяч лет, постепенно превращаясь в болота или вообще исчезая с лица земли, то озёра древние существуют миллионы лет.
25-30 миллионов лет – именно такой возраст дают учёные Байкалу.
Как он «родился», как рос и развивался – об этом мы еще поговорим попозже. А сейчас отметим, что байкальская впадина – это лишь одно из звеньев (точнее, центральное звено) огромной системы глубочайших впадин, расположенных на юге Восточной Сибири. И насчитывают геологи таких впадин свыше семидесяти. Все они окружены горными хребтами, простирающимися на сотни километров с юго-запада на северо-восток.
Манящие вершины Хамар-Дабана. Фото В.В. Тахтеева След медведя на весеннем снегу в гольцах Хамар-Дабана. Фото В.В. Тахтеева Хребты эти достигают высот свыше 2000 метров над уровнем океана. Конечно, не Гималаи, но и такие высоты – очень даже немалые!
Не будем перечислять все хребты, назовём лишь те, что непосредственно окаймляют Байкал. Возьмите его карту. С западной стороны вы увидите относительно невысокий Приморский хребет (редкие его вершины превышают 1000 м), который на севере сменяется высоким и грандиозным Байкальским хребтом (высоты до 2000 м и более); водораздел этого хребта проходит всего в нескольких километрах от берега озера, и стекающие с него горные речки очень коротки и бурливы. На самом севере западный берег ограничен отрогом Кичерского хребта – тем самым, в котором прорублены четыре мысовых тоннеля Байкало-Амурской железной дороги.
Восточный берег озера в южной его части окаймлён высоким, образующим несколько гряд хребтом Хамар-Дабан; он отходит от Саянских гор, расположенных западнее Байкала. Далее на север, за руслом крупнейшего притока Байкала – Селенги, расположен несколько менее высокий хребет Улан-Бургасы, а вдоль восточного берега северной части озера тянется Баргузинский хребет, гребень которого постепенно удаляется от Байкала при движении к его северной оконечности. Этот хребет высокий; его вершины достигают отметок 2300-2600 м и более.
Все они – и впадины, и окаймляющие их хребты – образуют протянувшуюся более чем на две с половиной тысячи километров Байкальскую горную область, или страну.
Большинство впадин этой страны в настоящее время сухие, то есть в них нет крупных и глубоких озер. Исключение составляют сам Байкал и его «младший брат» – горное озеро Хубсугул, лежащее в Монголии (глубина этого озера около 250 метров, а максимальная длина 136 км, что, конечно, несравнимо меньше размеров Байкала). Однако коренное дно сухих впадин, как и во впадине Байкала, скрыто под огромными – до нескольких километров – толщами осадочных пород. Они накапливались долгое время в различных условиях, в том числе и в озерных водоемах, когда-то существовавших в сухих ныне впадинах.
Некоторые из этих озер, не доживших до наших дней, были весьма крупными и глубокими. Как установили геологи, на территории Забайкалья в районе реки Селенги относительно «недавно» – сотни тысяч лет назад – существовало огромное озеро. Кончило оно свой век тем, что было спущено в Байкал. По-видимому, это произошло после сильного понижения уровня Байкала.
Не менее удивительно то, что в течение миллионов лет чуть к западу от современного Байкала плескались волны древнего Тункинского озера.
Его глубины превышали как минимум 200 метров, воды были, как и в Байкале, весьма холодными, и даже некоторые животные и водоросли, характерные для нынешнего Байкала, также обитали в нём. При бурении в Тункинской впадине, лежащей у подножия гор Восточного Саяна, была пройдена толща озерных отложений в несколько сотен метров. Возможно, это древнее озеро могло бы в дальнейшем слиться с Байкалом и стать его частью. Но оно обмелело и высохло. Что же погубило его? Оказывается, неоднократные извержения вулканов. Потоки раскаленных вулканических лав выливались в котловину и заполняли её. Застывая, лавы образовывали мощные прослои базальта, что и привело в конце концов к исчезновению Тункинского озера.
В настоящее время вблизи Байкала нет действующих вулканов. Но их прежнее существование достоверно доказано. В той же Тункинской долине имеется невысокий холм, который так и называется – Потухший вулкан.
Исследователи считают, что этот вулкан функционировал ещё на глазах у древнего человека. Да того и гляди, в иной прекрасный день возьмут да проснутся вновь вулканы в Прибайкалье, и как «дадут прикурить»! По мнению геологов, такой вариант вполне возможен.
Есть и другие свидетельства того, что земные недра под Байкальской горной страной ведут себя очень неспокойно. Это, например, горячие источники. На Северном Байкале есть бухта Хакусы. В этой бухте среди лесотундры, благодаря суровым морозам спустившейся прямо на берега озера, вы увидите настоящий оазис. Из склона горы недалеко от берега Байкала вытекает Горячая речка. Температура воды в ней в среднем равна 47 градусов! В русле этой удивительной речки растут изумрудным ковром теплолюбивые синезеленые водоросли, а возле неё обитают несколько загадочных видов беспозвоночных животных, например, улитки прудовик хакусский и прудовик термобайкальский, известные пока только отсюда, и личинки теплолюбивых стрекоз, неспособные выжить вне соседства с горячими источниками. Да и люди пользуются подарком природы: прямо по течению Горячей речки поставили баньку с бассейном и соорудили небольшой курорт. Ведь горячая подземная вода ещё и целебна.
В нескольких местах можно принять природные горячие ванны – на мысе Котельниковском, в поселке Давша, в бухте Змеиной в Чивыркуйском заливе. Известны возле Байкала и более горячие источники, температура в которых приближается к таковой кипятка и достигает 70-80 градусов.
Предполагается, что функционируют теплые родники и ниже уровня вод Байкала. И тому есть много косвенных свидетельств. Например, то, что в ряде участков на дне озера из недр Земли излучается повышенное количество тепла (как говорят ученые, повышенный тепловой поток).
Вулканы, горячие источники, повышенное тепловое излучение… О чём все это говорит?
«РИФТ» ОЗНАЧАЕТ «ТРЕЩИНА»
Если вы немного знакомы с глубинным строением Земли, то наверняка помните, что под верхним твердым слоем, занимающим несколько десятков километров, находится жидкое расплавленное вещество, называемое мантией. Именно от мантии происходит излучение глубинного тепла Земли. И все вышеназванные природные феномены ярко свидетельствуют о том, что в районе Байкала раскаленная мантия находится значительно ближе к земной поверхности, чем в других местах нашего континента. Глубинные подземные воды разогреваются вблизи неё, обогащаются новорожденными водами, возникшими в недрах химическим путём, целебным газом радоном и выходят на поверхность в виде горячих источников. Находящиеся под давлением расплавленные вещества мантии иногда прорываются наружу в виде потоков вулканических лав, что происходило многократно в истории Байкальской горной страны.
Таким образом, близость мантии в районе Байкала постоянно даёт о себе знать. Получается, что твердая земная кора здесь не сплошная, а имеет какие-то нарушения. Грубо говоря, через неё проходит гигантская трещина, которая получила краткое название «рифт». В переводе с английского это слово действительно означает трещину, щель, разрыв. Существование рифта в Байкальской горной стране давно предполагали геологи. В 1979 году, когда впервые учёные совершили погружения в глубины Байкала на подводном обитаемом аппарате, это предположение было доказано.
Рифт является обычным явлением для ложа дна океанов, как Тихого, так и Атлантического. Там на глубинах в 2-3 километра простираются трещины земной коры гигантской протяжённости – на тысячи километров.
Расположенные в ряд вдоль трещины подводные вулканы, излияния горячих источников с потрясающе высокими температурами – до 350 градусов
– красноречиво говорят о прохождении этих трещин вплоть до верхней мантии.
В районе Байкала рифт предстаёт перед нами совершенно необычно – тем, что развит не на дне океана, а в глубине Евразиатского материка. Но не менее интересно то, что эта гигантская трещина продолжает развиваться, и разрыв земной коры идёт все дальше и дальше на северо-восток от Байкала. Есть свидетельства и этого процесса, которые мы нередко со страхом ощущаем сами.
В полной тишине вдруг неожиданно качнулись стены дома, пол заходил, закачался, задребезжала посуда в шкафу. Землетрясение! Глухое ворчание стихии, заставляющее содрогнуться землю, грозящее перерасти в разрушительный гнев. Заворочался старик Байкал, даёт о себе знать даже в удалении. И начинается запоздалая, уже совершенно бесполезная паника.
Иной раз люди по нескольку часов простаивают во дворах, боясь войти в дома в ожидании новых толчков. В этом нет смысла – после самого сильного толчка в подавляющем большинстве случаев могут быть лишь гораздо более слабые, затухающие.
В Иркутске и его окрестностях можно почувствовать несколько слабых землетрясений в год. Приборы же, называемые сейсмографами, регистрируют толчки слабой силы до 2000 раз в год, то есть по несколько землетрясений в день.
Случаются в Байкальской горной стране и катастрофические землетрясения. Их сила достигает 9-10 баллов. Это означает, что, окажись в эпицентре такого землетрясения какие-либо здания, они были бы полностью разрушены. К счатью, в местах вероятной наибольшей силы подземных толчков не имеется крупных населённых пунктов, либо дома строятся специальные, с повышенной устойчивостью. Однако землетрясения вызывают нередко опасные последствия: обвалы в горах, образование подпрудных горных озер, либо их прорыв. Прорванное горное озеро, несущееся ревущим гигантским потоком вниз, в предгорье, сметает всё на своем пути.
В районе недавно построенной Байкало-Амурской железной дороги некоторые посёлки оказались в зоне возможного прорыва горных озёр, а ведь именно там время от времени случаются сильные девяти-, десятибальные землетрясения!
Именно при сильных подземных толчках Байкал нередко расширяет свои владения, заливая те или иные участки прилегающей суши. Наиболее известно землетрясение 1862 года, когда в районе дельты Селенги опустился на несколько метров и был залит водами Байкала участок низменной, заболоченной суши, где находились несколько бурятских улусов. Люди спешно покинули это место, на котором возник новый залив Провал.
Но этот случай не единственный в истории озера. В разные эпохи Байкал захватывал сушу и превращал её в море. Таким же путём, как и залив Провал, мог возникнуть и Посольский залив к югу от дельты Селенги (Посольский сор, говоря по-местному), и обширная бухта Дагарская на самом севере озера, и многие другие участки.
Однако что же такое землетрясение? Это образование разлома, трещины в земной коре. Рифт развивается дальше, и при разломе содрогается земля, вселяя в людей страх и ужас.
Именно благодаря рифту и предопределилась глубоководность Байкала и ещё многие интереснейшие черты его природы.
А сейчас – небольшое добавление для любителей помечтать. Учёными установлено, что в верхних слоях уже упомянутой мантии образуется водород – вещество, выделяющее при своем сгорании огромное количество энергии. Если бы люди обладали большими запасами водорода! Тогда бы атмосфера над нашими городами стала бы намного чище (ведь водород при горении образует не ядовитый дым с сажей и углекислым газом, а самую обычную воду), и была бы решена проблема невозобновимых источников энергии (угля, нефти). Цивилизация сделала бы мощный рывок к нормализации своих давно напряженных отношений с Природой. Вот если бы можно было добыть этот самый водород!
Байкальская горная страна облегчает нам решение этой крайне сложной задачи. Близость мантии к поверхности Земли и наличие «доступа» к ней благодаря разломам, рифтовым трещинам плюс оригинальное техническое решение – и в наших руках бездонная энергетическая кладовая!
Возможно, что вплотную заниматься этой интереснейшей задачей предстоит кому-нибудь из юных читателей этой книжки.
СУРОВАЯ И ПРЕКРАСНАЯ ТАЙГА
«Под крылом самолёта о чем-то поёт зеленое море тайги. ».
Это слова из песни, популярной в свое время. Действительно, было время, когда тайга занимала огромные пространства на территории Сибири, смотревшиеся с самолёта безбрежным тёмно-зеленым морем. Сейчас картина уже не та; люди, которым приходится хотя бы время от времени летать на самолёте, прекрасно это знают. В таёжном «море» появились «острова», «островки» и даже целые «материки», занятые городами и полями, лесные угодья рассечены многочисленными просеками дорог и линий электропередач. Человек массированно и неудержимо вторгается в необжитые некогда пространства, переделывает их лик по своему усмотрению, не всегда продуманно и дальновидно.
Тем не менее, байкальская горная страна пострадала от этого вторжения меньше, чем окружающие территории с более ровным рельефом.
Байкальские горы сохраняют и по сей день своё великолепное таёжное обрамление. И оно, в свою очередь, сохраняет и питает воды Байкала. В горах, поросших тайгой, берут своё начало многие и многие ручьи и речки, которые через пороги и шумные перекаты, иной раз даже через чарующие красотой водопады несут в озеро-море свои кристально чистые и леденяще холодные воды.
Тайгой принято называть хвойные леса, занимающие в общей сложности около 10 процентов суши на нашей Земле. Вслед за тропическими лесами тайгу можно назвать «лёгкими планеты», которые обеспечивают её кислородом. А в былые, причем не столь давние времена тайга была главным источником существования для народов, населявших Сибирь. В тайге добывалась пища, меха, она давала людям дрова и древесину для постройки жилья… Для некоторых народов бескрайние сибирские леса сами служили домом; например, для кочующих племен эвенков, или тунгусов, как их ещё называют.
Впрочем, тайга была и источником духовной силы народов. Кто хотя бы раз побывал в таёжных дебрях, тот помнит, какое чувство величественности и единения с первозданной природой его охватывало. Вековые кедры и могучие сосны, то молчаливые, то величаво шумящие в порывах проносящегося по верхушкам ветра; запах багульника и пихты, благодатный дурман с грибной свежестью; родники с кристальной, почти ледяной водой; заросли черничника и голубичника с гроздями вызревающих к концу лета ягод; а зимой – чистейшие, нетоптанные сугробы, снежный наряд на мохнатых ветках деревьев, искрящийся на солнце днём, ночью же делающий их похожими на таинственные сказочные создания в голубоватом лунном свете. Всё это будит в душе самые светлые чувства (а то и вообще вспоминаешь, что она, душа, у нас всё-таки есть!). И потому-то всегда в походах, у туристкого костра или в тёплом, добротно срубленном добытчиками кедровых орехов зимовье хочется поразмышлять о вечном, о мироздании и совершенстве природы, о твоём месте в этом мире, а то и о других, далеких мирах, которые видны лишь яркими мерцающими звёздами над головой, среди крон таёжных исполинов. И возвращаешься из тайги всегда внутренне очистившимся, с разбуженным порывом мечтательности и с чувством гордости за свой край.
ВЫСОКО В ГОРАХ
Тайга занимает большую часть пространств, прилегающих к Байкалу.
Но озеро, как мы уже отметили, окаймлено горными хребтами, достигающими порой высот более двух километров над уровнем океана, а иногда даже выше. И даже глядя на эти горы издали, можно увидеть, что их склоны и вершины покрыты растительностью другого типа, нежели обычной тайгой.
Что же это за растительность? Давайте мысленно поднимемся туда, где, кажется, до облаков рукой подать.
Долог и тяжёл подъем в высокогорья, да и просто опасен. Горы не любят легкомыслия. Весной туда по возможности вообще лучше не соваться: лавиноопасное время. Да и даже в июне на вершинах ХамарДабана, Байкальского и Баргузинского хребтов лежат снега, грозящиеся в любой момент сорваться вниз стремительным белым потоком, всё сметающим на своем пути. (Отдельные снежники в защищённых от солнца местах там не тают и в июле!). А если летом зарядят нудные затяжные дожди, то с гор может сорваться другой поток – грязекаменный. Название ему – сель. Сель гораздо страшнее лавины по своим катастрофическим последствиям; стремглав срываясь со склонов под тяжестью накопившейся дождевой воды, этот поток врезается в предгорную тайгу, ломая деревья как спички и начисто «выбривая» полосу своего пути. Глыбы высотой с человеческий рост вместе с громадным количеством мелких камней, щебня и песка прорываются иногда к Байкалу. Был случай, когда во время такого прорыва сильно пострадал город Слюдянка на южном берегу озера.
Сель, устремляясь дальше по подводным ущельям озера в виде потока мути, скатывается по склону озёрной впадины и достигает в ней очень больших глубин. Там, на пологом дне ложа котловины, он отлагает последний свой принесённый материал – песок и гравий.
Но мы всё же пойдем туда, наверх, к зовущим нас вершинам, надеясь, что ни сели, ни лавины нас не настигнут. Бытует среди туристов поверье, что они тогда приносят несчастье, когда нет в группе слада, случаются ссоры и склоки. Словно природа наказывает тех, кто не дружен.
По пути на вершину хребта предстоит пролить немало пота, поднимаясь по крутым склонам, по россыпям камней; нередко приходится служить живым «обедом» для мошки и комаров. Но зрелище, открывающееся оттуда, сверху, – незабываемо.
Горное озеро Сердце в районе пика Черского. Фото С.Г. Шубенкова
Поднимаясь, мы замечаем, что леса на склоне горы становятся всё более хвойными. Здесь царство кедра, лиственницы и сосны, а воздух порою настоян на густом аромате пихты. Ещё выше хвойные леса начинают редеть: деревья не смыкаются уже в труднопроходимую плотную чащу, а стоят, широко расставленные друг от друга. Да и сами они уже не такие высокие, мощные и величественные. Мы вступили в пояс редколесий.
Поднимемся ещё дальше – и увидим, как деревья полностью исчезнут; начинаются гольцы (то есть «голые горы»); тем не менее, какое-то хвойное растение образует плотные заросли среди оголенных каменных пространств. Это кедровый стланик, который обычно не превышает высоты человеческого роста, но идти по нему – сущее наказание: настолько плотно смыкаются его ветви над землёй. Там, где это возможно, стланик лучше вообще обойти стороной, а не продираться через него. Но в этих-то непролазных зарослях к концу лета созревает множество шишек с очень питательными и вкусными орешками. Стланиковые шишки по размерам мельче обычных кедровых, но орехи в них сидят не хуже. Зимой стланик задерживает собою снег, укрывается им «с головой» (ветки, не покрытые снегом, трескучий мороз попросту замораживает и губит), и под этим толстым и тёплым покрывалом получает зимний приют многочисленная мелкая живность (например, бурундуки). Вся она живёт, питаясь стланиковыми орешками.
Преодолев пояс кедрового стланика, мы попадаем в следующую зону
– высокогорную тундру. Здесь уже и стланика-то почти нет – сидит кое-где отдельными невысокими куртинками; едва пробиваются из щелей в скалах проростки золотистого рододендрона – кустарника, который ниже, в редколесье и таёжном поясе, растёт раскидисто, украшая в начале лета лес своими крупными жёлтыми цветками. Здесь же, в тундре, он не то что зацвести – подрасти не в состоянии. Встретим мы здесь и настоящие атрибуты природы Севера – карликовые берёзки. И ряд травянистых растений (камнеломки, чабрец и др.), не чурающихся этих мест. Но основное пространство тундры занято многочисленными камнями, поросшими самыми разнообразными лишайниками. Эти удивительные организмы, своего рода биологический «сплав» гриба и водоросли (или, говоря научным языком, «симбиоз»), могут по праву считаться организмами-первопроходцами. Они заселяют, казалось бы, самые непригодные для жизни «квартиры» – голые камни. И разукрашивают они эти камни в самые разные цвета – зелёный, бурый, красный, жёлтый, чёрный… Лишайники растут медленно, «урывками»: пройдут в горах дожди, намочат камни, и эти организмы оживают, впитывают влагу, расползаются, производят споры, необходимые им для размножения. Становится вновь сухо – и жизнь лишайников замирает в ожидании воды. И такие вот каменисто-лишайниковые тундры простираются уже вплоть до самых вершин гор – до 2000 м и более.
Почему же так бедна и своеобразна растительность на больших высотах?
Ответ ясен. Суров климат высокогорий. Здесь лето очень короткое. В июне ещё лежат снега, оставшиеся от прошедшей зимы, а в конце августа, после недолгого тёплого периода, вновь ложится снег. Вершины и склоны открыты всем ветрам, а морозы зимой – очень лютые. Даже летом ночёвка в высокогорье не обещает комфорта: в ночные часы температура сильно падает, порой даже ниже нуля.
Нам доводилось испытывать на себе сложный нрав гор. Дело было в двадцатых числах августа. Несмотря на конец лета, стояла сильная жара.
Мы, несколько «бродяг», выпускников и сотрудников Иркутского университета, выехали на Хамар-Дабан, чтобы подняться на популярный у туристов пик Черского, высота которого достигает 2090 м, а затем спуститься по противоположному его склону к небольшому горному озеру Сердце.
Миновали таёжный пояс, поднялись выше метеостанции «ХамарДабан», прошли редколесье и вступили в безлесные высокогорья, усаженные то там, то тут куртинами кедрового стланика. Было очень жарко.
Знойный воздух струился над разогретыми камнями. Мы ненадолго останавливались, вытирали льющийся по лицу пот, передавали из рук в руки фляжку с водой из горного ручья, предусмотрительно запасённой возле метеостанции. И шли выше, туда, где на самой вершине пика стоял трёхногий тур – символ победы, от которого можно двигаться лишь вниз. Необыкновенной красоты картина открывается с вершины. Горные цепи Хамар-Дабана, протянувшиеся от одной стороны горизонта до другой и уходящие в синеватую дымку. Вдали – котловина Байкала с густыми белёсыми облаками, оставшимися далеко внизу. А по другую сторону от неё — лежащее в межгорной впадине маленькое озеро, отражающее яркую голубизну неба в своём действительно сердцевидном водном зеркале. За озером и ниже него начинались кедрачи.
Мы спустились к озеру под вечер, когда стало попрохладнее. Солнца уже не было нам видно, оно осталось за мощной горной стеной, ограждающей впадину с западной стороны. К озеру подходили очень низкорослые голубичники, единичные кедры, словно самые отчаянные из своих собратьев, взбежавшие вверх по склону выше других. Здесь мы остановились на ночь. Палатки у нас не было, и мы довольствовались спальными мешками и наскоро сооружённым навесом из полиэтиленовой плёнки.
На чистом небе высыпали яркие звёзды. Всполохи костра выхватывали из темноты наши усталые лица. Неспешный разговор шёл на философские темы, которые, пожалуй, невозможно обсуждать, сидя в уютных городских квартирах. Кто мы в этом мире? Есть ли другие, неизвестные нам миры? И было очень тихо в горах. Только равномерно шумел невдалеке ручей, вытекающий из озера и скатывающийся вниз по крутым уступам голой скалы.
Утро, как и предыдущий день, было солнечным и ясным. Попрежнему было тепло. Но ближе к середине дня появились первые признаки ухудшения погоды. Белёсые клочья тумана начали заполнять впадину снизу, постепенно подползая всё выше и выше. Вскоре они добрались до нашей стоянки. Ухудшилась видимость, скрылось Солнце. Стало ясно, что будет дождь. Но нам не хотелось уходить. Да и поздно уже было — всё равно не успели бы спуститься с Хамар-Дабана до конца дня. Туман густел, тянулся всё выше, к вершине пика Черского, и мимо наших лиц неспешно проплывали бесчисленные мелкие, но хорошо заметные капельки. Мы находились в туче, плотно обложившей горы.
Пришлось заняться обустройством нашего «жилища». Из плёнки мы сделали не просто навес, а настоящую, укрытую со всех сторон палатку.
Укрепили её в расчёте на возможный ветер, запаслись дровами.
Уже моросил мелкий дождь, когда мы поужинали. Мокнуть зря не хотелось, мы залезли в своё плёночное укрытие. Начало темнеть. И тут с неба хлынуло так, что плёнка над нами сразу прогнулась! По ней застучали сплошной канонадой крупные капли, потекли ручейки. Мы видели, как наш добротно разожжёный костёр долго сопротивлялся, полыхал огненными языками, никак не хотел гаснуть, несмотря на тропический по силе ливень. Хамар-Дабан – «холодные тропики». Сколько раз приходилось слышать это сравнение! Теперь же пришла пора прочувствовать.
Поднялся ветер. Резкие его порывы напрягали до предела наше укрытие, грозясь в любой момент сорвать плёнку и оставить нас наедине с непроглядной ночью и ливнем. Случись это – мы за пять минут были бы насквозь мокрые, и некуда было бы деться от разошедшейся стихии. О подъме на гребень и последующем спуске с хребта не молго быть и речи.
Осознание опасности пришло ясно и чётко. Тяжеленная грозовая туча села брюхом прямо в межгорную впадину, в которой мы находились.
Сквозь плёнку, трепыхаемую порывами ветра, мы видели – нет, не обычные голубовато-белые, а багровые вспышки молний, тут же сопровождавшиеся оглушительными пушечными ударами грома. Разряды сверкали гдето совсем рядом с нами, и была опасность, что один из них ударит в нашу палатку. Это были минуты страха и отчаяния!
Долго ли, коротко ли продолжался этот кошмар наяву, но затем стихия дала нам передышку. Грозовое ядро тучи, недовольно урча уже более отдалёнными раскатами грома, уходило в сторону. Ливень резко и неожиданно стих. Воцарилась тишина, и снова было слышно лишь шум катящегося по каменным уступам ручья. Мы успокоились, поудобнее устроились в своих спальниках и начали уже засыпать. И тут снова зашлёпали по поверхности плёнки крупные капли. Затем шлепки стали более «сухими» и резкими. Посыпался град, перешедший в мокрый снег. Началась «вторая серия» кошмара.
Толком мы до утра так и не спали. Когда стало светать, мы увидели, что на нашей плёночной палатке сверху лежит слой тающего снега. Каким чудом она уцелела во всех этих передрягах – непонятно. А снег не прекращался. Стало холодно. Мы решили срочно собирать вещи и уходить.
Как не хотелось вылезать из мешков! Ведь мы были одеты по-летнему. А вокруг, на горах, уже лежало белое снежное покрывало!
О совсем недавней жаре остались лишь иронические воспоминания.
Мы взбирались от ставшего серым и неприветливым озера на гребень по заснеженному склону и разогревались на ходу. А наверху, на гребне, была настоящая метель. Только августовская, хотя это и звучит до ужаса неестественно. Шли по снегу, за одну ночь скрывшему от глаз поросшие лишайниками камни, и ветер заметал наши следы. Тому, кто не знает дороги, в таких условиях из гор не выбраться. К счастью, мы точно нашли место, откуда начинается спуск. Ниже, у границы редколесий, снега стало меньше, и он перешёл в нудный моросящий дождь. Ещё рывок – и мы на метеостанции, обедаем в тёплом доме и пьём горячий чай. Вырвались! По крайней мере, теперь ясно – будем живы, не помрём!
После обеда мы долго спускались вниз на станцию, посыпаемые мелким, но затяжным дождём. А снег, в который нам суждено было попасть, останется лежать в высокогорьях уже до весны. Такие вот контрасты погоды наблюдаются в горах.
Впрочем, живая природа гор приспособлена к таким условиям. Едва лишь весной (а то и в начале календарного лета) сойдёт со склонов снежный покров, на южной стороне гор начинают цвести субальпийские луга.
Густо заросшие травами, благоухающие бесчислеными цветами, они представляют собой несравненное зрелище. На горных лугах Хамар-Дабана к тому же можно встретить реликтовые (оставшиеся от прошлых эпох) и эндемичные (встречающиеся только здесь и более нигде в мире) растения.
Например, если повезёт, вы увидите цветущий даганский рябчик – растение из семейства лилейных, известное только из хамар-дабанских гор.
Завершая разговор о природе байкальских гор, можно отметить ещё одну, очень интересную особенность. На севере озера, у подножья отрогов Баргузинского хребта, мы встречаем густые заросли кедрового стланика… прямо на берегу Байкала! Это именно он, стланик, кусты которого разделены голубоватого цвета полянами, образованными сочным, обильно разросшимся лишайником – ягелем, или оленьим мхом. Последнее название возникло потому, что этот лишайник поедается северными оленями. Ягель обычно тоже растёт в горах, как и стланик.
В чём же дело? А в том, что само озеро оказывает охлаждающее влияние на прибрежную полосу, благодаря чему туда и спускаются неприхотливые, холодостойкие горные растения. И не просто спускаются, а образуют даже особое сообщество, подобное тем, что имеются в горах. И для такого «добавочного», прибрежного пояса кедрового стланика ботаники придумали название: ложноподгольцовый пояс. То есть такой же, как и под голыми горными вершинами (гольцами), но только ложный, лежащий ниже пояса темнохвойной тайги.
«КУХНЯ ПОГОДЫ» БАЙКАЛА Обычно «кухней погоды» называют океаны. Именно там «варится»
погода, наблюдаемая над материками, причём не только вблизи от побережья, но в значительной мере и в глубине континентов.
Байкал, конечно, не сравним с океанами по размерам. Но и он оказывает очень заметное влияние на климат и на погоду в Южной Сибири.
Мы знаем, что климат в Сибири – резко континентальный. Это означает холодную зиму и пусть короткое, но жаркое лето, а также очень сильные перепады температур в течение суток. Байкал смягчает в своих окрестностях эту континентальность и в значительной мере приближает местный климат к морскому. Происходит это потому, что огромная масса вод, лежащих в котловине озера, является гигантским аккумулятором (накопителем) тепла. В течение всего лета озеро вбирает в себя тепло, накапливает его в своих глубинах, а с наступлением поздней осени и зимы начинает отдавать его обратно, смягчая лютые сибирские морозы на своих побережьях.
Поэтому зимой, особенно до ледостава, на Байкале теплее, чем в районах, удалённых от него; а летом, соответственно, прохладнее. Нередко в ноябре-месяце бывают дни, когда в Иркутске (в 60 км от озера) случаются морозы до 20 градусов и более, а на берегах Байкала в это же время термометр показывает не больше 8-10 градусов. Чаще же разница температур составляет около 5 градусов. Она уменьшается, когда после долгих штормов Байкал наконец засыпает под ледяным панцирем, и теплообмен между водой и воздухом затрудняется. Так что, если вы живёте в Иркутске, Ангарске или Шелехове и слишком замёрзли в начале зимы – приезжайте на Байкал, немного согреетесь! Равным образом, если вас в городе слишком донимает июльская удушливая жара, то на берегу Байкала вы будете чувствовать себя вполне комфортно, ловя лицом прохладные свежие струи, навеваемые с открытого моря.
Сглаживает Байкал и суточные колебания температуры; если в Иркутске летом день теплее ночи на 13-14 градусов, то на Байкале – всего лишь на 4-8.
Но, более того, приезжая на Байкал, вы не только попадаете в заметно изменённые климатические условия, но и в несколько иной сезон года.
Все времена года на озере и по крайней мере в полукилометровой полосе прилегающей к нему суши, а также в примыкающих к нему горных долинах, запаздывают примерно на месяц. Причина та же самая — огромная теплоёмкость водной массы. Так, в северной части озера в первой половине июня ещё довольно зябко, да на поверхности воды нередко можно встретить плавающие льды, словно миниатюрные айсберги. Зато самый тёплый на Байкале месяц – это август, а сентябрь по праву можно назвать «бархатным сезоном», поскольку ещё довольно тепло и днём, и ночью.
Большое количество солнечных дней – ещё одна «достопримечательность» Байкала. Подсчитано, что над его водами солнце сияет около 2100часов в году. Это на 300-400 часов больше, чем на известных черноморских и прибалтийских курортах! Даже в расположенном неподалёку Иркутске солнца бывает немного меньше, чем на Байкале. В погожие дни можно видеть, как белые кучевые облака нависают над верхушками окаймляющих озеро гор. Они будто не решаются от них оторваться и начать гулять над водными просторами. Действительно, горы, являясь существенной преградой для воздушных потоков, часто не дают облакам «прорваться» и увеличивают общее время солнечного сияния над озером.
Байкал – это не только огромный тепловой аккумулятор, но и гигантский «пылесос». Многих людей, приезжающих на его берега, особенно в период открытой воды, поражает кристальная чистота воздуха, потрясающая по дальности видимость в десятки километров, позволяющая видеть протянувшиеся на противоположном берегу горные цепи. Байкал обладает способностью очищать атмосферу. Посмотрим, как это происходит.
В воздухе обыкновенно содержится множество мельчайших частиц, обладающих настолько лёгким весом, что они не в состоянии быстро опуститься на землю. Все эти частицы называются аэрозолем. В формирование аэрозоля вносят вклад пыльные бури, лесные пожары и, разумеется, деятельность человека. Особенно загрязнён воздух пылью и аэрозолем над крупными промышленными городами. Огромное количество воздушных выбросов дают Иркутск, Ангарск, Черемхово, Саянск и другие города и посёлки Иркутской промышленной зоны. «Помогают» им и более отдалённые города, вплоть до Канска и Ачинска. Влекомые воздушными потоками, промышленные выбросы стягиваются в район Байкала. А отсюда им, как правило, дальше дороги нет, ибо воздушные массы начинают циркулировать в пределах Байкальской горной котловины, не выходя из неё. А водное зеркало Байкала постепенно поглощает, всасывает частицы аэрозоля из воздуха и затем отправляет их подальше, в свои донные отложения.
Извлекает, так сказать, из оборота. Поистине огромный суперпылесос!
Байкал – не просто очень красивое, но и мудрейшее творение природы. Он принимает удар на себя, и в то время, как большое число людей ведут бесконечные словесные баталии об «улучшении качества окружающей среды», он проводит огромную очистительную работу, давая нам вновь и вновь кристально чистый воздух.
Надо помнить, однако, что возможности Байкала не безграничны. Та особенность, что он «закупоривает» воздушные массы в своей котловине, обусловливает и его повышенную ранимость. Так, воздушные выбросы печально известного целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске не уносятся ветрами прочь, а расползаются вдоль берега озера, скапливаются в его горных долинах, циркулируя там подолгу. При этом большие концентрации вредных веществ вызывают усыхание и гибель лесов, накопление ядов в почве. Яды эти в дальнейшем смываются непосредственно в Байкал. И всё это создаёт серьёзную угрозу его нормальной жизни.
Байкал не был бы Байкалом и без знаменитых семи ветров. Каждый из них имеет свои характерные черты: направление, сила, порывистость, сопровождающая ветер погода, степень опасности для мореплавания и т.д.
Тут и слякотный култук, и упругие верховик и ангара, и воспетый в известной песне баргузин, и своенравный, лишённый чувства юмора горный ветер (с разновидностью в Малом Море – сарма), и пришельцы с востока – шелоник и селенга. Постоянство направлений ветров вызвано тем, что водная чаша озера плотно зажата хребтами, и прорваться к ней ветры могут лишь в строго определённых местах – через долины в горах.
Собственно говоря, байкальские ветры по своей природе можно разделить на проходные и местные. Первые из названных связаны с прохождением крупных воздушных масс и атмосферных фронтов (границ раздела тёплого и холодного воздуха) через Байкальскую горную страну. Местные ветры рождаются прямо здесь, в котловине Байкала, из-за разницы температур воздуха над водой и над берегами, которая вызывает различия в атмосферном давлении и переток воздуха в ту зону, где давление ниже.
Невезучими оказываются те туристы, которые приезжают на Байкал и оказываются застигнутыми проходным култуком. Слякоть, ненастье, порывы промозглого ветра будут сопровождать их очень долго. Култук дует с самой южной оконечности озера, где расположен посёлок с таким же названием. Здесь – своего рода «гнилой угол»: именно отсюда чаще всего начинает портиться погода. Проходя вдоль всего Байкала, он разгоняет огромные свинцового цвета валы, так что морское путешествие в это время тоже не доставит удовольствие.
Итак, если вы живёте в Прибайкалье и за вашим окном зарядили многодневные дожди, вполне можно полагать, что на Байкале в это время дует култук. Хотя весной и в начале лета холодный воздух с заснеженных ещё гор Хамар-Дабана может скатываться к Байкалу и вызывать култук, дующий при ясном небе.
В противоположность култуку, верховик и баргузин проносятся вдоль Байкала с севера на юг (только верховик дует с самой северной оконечности озера, а баргузин – из очень протяжённой долины, где протекает одноимённая река, впадающая в Баргузинский залив Байкала) и при этом почти всегда – в ясную, солнечную погоду. Шторм, вызванный этими ветрами, необыкновенно красив: катятся крутые изумрудные валы с белыми пенистыми барашками на гребнях, налетают на скалы, разбиваясь в миллионы сверкающих брызг. Чаще всего начинается баргузин или верховик утром, после восхода солнца, а перед закатом постепенно стихает; нередко они дуют по несколько дней подряд, а иногда не прекращаются и ночью.
Горный ветер, или горняк – самый коварный и беспощадный. В Малом Море, как уже говорилось, он называется «сарма». Это штормовой ветер (нередко ураганной силы – до 30-40 м в секунду) северо-западного направления. Он связан с прохождением через Байкал холодного атмосферного фронта. При похолодании, приходящем из арктических районов, холодный воздух идёт близко к земле и при подходе к Байкалу встречает преграду в виде горных хребтов (Приморского и Байкальского). Не в силах сразу двинуться дальше, фронт останавливается, холодный воздух накапливается в предгорьях; его уровень, подобно уровню воды в запруженной реке, поднимается всё выше и выше; наконец, он достигает гребня хребта.
Холодная и тяжелая воздушная масса переваливает через горы и стекает вниз к Байкалу, разгоняясь при этом до скорости урагана. Ветер несёт песок, срывает деревья, иногда даже крыши с домов; вырвавшись на просторы Байкала, он устремляется к восточному берегу и по пути поднимает огромные волны. Свирепый ветер в своих порывах срывает верхушки волн и в виде вееров брызг бросает их вдогонку уходящему предыдущему валу.
Опасность горняка не только в сильном волнении, которое он вызывает. Его сила такова, что способна утащить застигнутую врасплох лодку или даже катер далеко в открытое море, и какая судьба уготована находящимся в них людям, одному Богу известно. Налетает горняк резко и неожиданно, и благодаря своей неожиданности загубил немало жизней. Самая страшная история случилась в начале века, когда пассажирский пароход «Потапов» в Малом Море, возле бухты Семисосенной был сармой выброшен на скалы. Погибло более 200 человек. Известны многочисленные случаи, когда вёсельные лодки или лодки с заглохшим мотором враз налетевшая горная быстро уносила в море. Выгрести на вёслах против ураганного ветра невозможно. Только благодаря огромному мужеству людей, долгие часы боровшихся со стихией, эти истории не всегда имели печальный исход.
Нужно ли нам так же панически бояться гнева Байкала, как боялось его местное население в прошлые столетия? Может быть, и нет. Но надо всегда быть начеку. Если несколько дней стоит штиль, и липкая жара чувствуется даже над водой вдали от берега; если над горами западного берега собираются и нависают тяжёлые сизые тучи – это нехорошие приметы.
Лучше не испытывать судьбу и вернуться к берегу: может начаться горная.
Ветер шелоник подобен горной, только дует он не с западного берега, а с восточного. И не достигает такой сокрушительной силы. Даже более того: его порывы часто слабеют и гаснут на пути через Байкал, но при этом успевают поднять волну. В итоге у западного берега может наблюдаться весьма странная картина: при безветренной погоде на пляж выкатываются как будто невесть откуда взявшиеся штормовые валы.
Местные ветры, обычно несильные, наблюдаются на Байкале почти каждый день. Это, например, бризы, подобные тем, что бывают на морях.
В жаркие летние дни холодный воздух с моря тянется в долины и пади, а ночью напротив – бриз дует из долин в море. Такие ночные бризы получили название «холода».
Благодаря особенностям горного обрамления Байкала и постоянства направленности ветров количество осадков, выпадающих в разных районах Байкала, очень неравномерно. Наиболее славится обильными осадками район хребта Хамар-Дабан, точнее, его склон, обращённый к Байкалу.
Здесь их выпадает 1000-2000 мм в год и более. Что это означает? Если бы можно было собрать в какой-нибудь сосуд всю воду, «пролившуюся» на него с небес за год, и не давать ей испаряться, то она образовала бы слой глубиной в два метра (2000 милиметров)! Это очень большое количество.
Летом на Хамар-Дабане обычны ливневые дожди (именно поэтому, как мы уже говорили, он получил название «холодные тропики»), а зимой обильные снега дают покров толщиной до 1,5, а иногда и до 2 м. Хамар-Дабан – это своего рода «дыра», к которой стягиваются тучи со всего Прибайкалья.
А вот если мы зимой приедем на остров Ольхон, то увидим практически голые бесснежные берега. Осадков на острове выпадает крайне мало
– самое большее 200 мм в год. Летом здесь почти невозможно попасть под дождь, а зимой тонкий слой снега быстро сдувается сильными ветрами; оставшаяся его часть попросту испаряется, так и не успев растаять. Сухость микроклимата обусловила слабое развитие лесов на острове (хотя в виде исключения сохранился даже небольшой реликтовый ельник, а ель, как известно, любит влажную почву). Большая часть его территории занята степями. Бескрайние степи оживают в начале лета, благоухают дурманящими запахами трав. А к августу уже «выгорают»: большинство растений отцветает, трава иссыхает, и степи вместо зелёного принимают сероватожелтоватый оттенок.
В целом же северная часть Байкала оказывается более обделённой влагой, чем южная. Бывает и такое: на юге всё залито дождями, поднимается уровень в реках, гниёт сено у деревенских жителей, а на севере в то же самое время – засуха, высокая пожарная опасность в лесах, где от любой искры может заполыхать валежник и сухая подстилка.
Сложна байкальская «кухня погоды». Подчас трудно сказать, что на ней будет «приготовлено» через день, через два, через неделю. Но необходимо. Радисты судов, ходящих по Байкалу, ежедневно принимают метеосводки; в случае штормового предупреждения суда имеют возможность заблаговременно найти удобное место для отстоя. И не зря на берегах Байкала в самых разных точках расположены несколько метеостанций. Метеорологи живут на них в отрыве от нашей шумной и суматошной цивилизации, ведут ежедневные наблюдения, передают их по радио в Иркутский гидрометеоцентр. И ещё у службы погоды имеется несколько исследовательских судов для проведения экспедиций и наблюдения за состоянием Байкала. Одно из них – теплоход-красавец «Меркурий». И ходит он в рейсы до тех пор, пока не начнёт «славное море» покрываться льдом.
ЛЕДЯНАЯ СКАЗКА
Не сразу после наступления морозов успокаивается Байкал под ледяным панцирем. Постоянные штормы, начавшись сплошной полосой осенью, не дают ему заснуть и в начале зимы. В ноябре покрываются льдом лишь мелководные заливы и бухты, хорошо укрытые от влияния открытого моря (подобные заливы на Байкале традиционно называют сорами; запомним это слово, оно ещё не раз встретится вам в этой книжке).
И тем не менее, понемногу озеро готовится к зимнему покою. Если вдруг выдадутся несколько тихих и морозных дней, поверхность воды покрывается тонкой ледовой корочкой. Но даже слабое волнение враз разбивает эту корочку на отдельные мелкие тонкие льдины. Они получили название «сало»; качаются на волнах, задевая друг друга краями, и напоминают хлопья застывшего жира в тарелке холодного супа. У берегов образуются ледяные забереги – узкие полосы льда, намерзающие при накате на пляжи штормовых волн. На береговых скалах во время штормов от замерзающих брызг нарастают ледовые корки и свисающие вниз ледяные сосульки-сталактиты. Это так называемые сокуи, которые остаются в качестве великолепного украшения и после полного ледостава, на всю зиму.
Иногда в сокуях возникают даже своеобразные ледяные гроты! Наконец, и в открытой воде идёт невидимый поначалу для нашего глаза процесс кристаллизации льда. Вода не может замерзнуть полностью из-за постоянного волнового перемешивания, но в ней образуются маленькие линзочки и иголочки внутриводного крупинчатого льда, размером всего несколько миллиметров каждая.
Но вот наступает наконец день, когда вместо привычного водного простора перед нами предстаёт огромное ледяное поле. Байкал встал. Происходит это обычно во второй половине декабря на севере озера, в январе или даже в начале февраля – на юге. Осталось выждать два-три дня, пока лёд укрепится (а нарастает он по 3-5 см в сутки), и можно отправляться в пеший путь прямо по Байкалу. А через десять дней обычно уже можно и на машине ехать.
Впрочем, бывает и так, что установившийся и уже довольно мощный ледяной покров взламывается штормовыми ветрами. Слетающий со склонов горняк оказывает на лёд такое давление, что он ломается, уничтожая уже проложенные дороги, и вновь на какое-то время возникают поля открытой воды.
Возникает невольный страх, когда впервые ступаешь на гладкий, словно полированный, байкальский лёд. Если в нём совсем нет трещинок, он имеет тёмный цвет, словно это и не лёд вовсе, а неподвижно замершая водная толща. Возле берега сквозь такой ровный лёд даже можно разглядеть дно: подводные каменные россыпи, светлые песчаные «полянки», растущие на камнях губки… Но как раз такого льда и не нужно бояться – он даже толще непрозрачного или прикрытого снегом льда.
А если говорить конкретно, то лёд на Байкале нарастает очень сильно: не бывает в конце зимы тоньше 40 см, а чаще достигает толщины 1 м и более. В отдельные годы на Северном Байкале отмечена полутораметровая ледяная толща.
Спокойна и размеренна жизнь зимой в байкальских посёлках. По снегу проложены редкие тропы, вьётся дым из печных труб в деревенских избах. Взгляд застывает, словно прикованный, на бескрайнем ледяном поле.
Видно, как вдали это поле пересекают гряды вздыбившихся торосов. Иногда маленьким тёмным пятнышком проследует по ледяной пустыне машина или мотоцикл. Поистине царственный покой великого озера!
Ненастье в Чивыркуйском заливе. Фото В.В. Тахтеева Гряда торосов во льдах Байкала. Фото В.В. Тахтеева Но не может Байкал окончательно успокоиться и подо льдом. Он разговаривает. Особенно громко звучит его голос сразу после ледостава, а также ночами ближе к весне, когда заметно увеличивается разница дневных и ночных температур. Это приводит к тому, что лёд при похолодании сжимается, и в нём образуются трещины и щели. Самые крупные из щелей называются становыми. Они проходят обычно параллельно берегу по направлению от одного выдающегося в море мыса к другому и достигают ширины от нескольких сантиметров до 1-4 метров. В щели зияет в жутковатой бездне открытая вода. Щель живёт и дышит: она то расходится, то вновь смыкается, раскрывая и захлопывая свою многокилометровую ледяную пасть; то затянется молодым ледком, то выдавит из себя порцию воды, разливающейся возле щели на несколько метров по поверхности льда.
Если расширение льда продолжается и после смыкания щели, его края воздымаются друг над другом в виде ледяных глыб – торосов. Даже небольшие торосы делают лёд труднопроходимым для пешеходов: через них надо перелезать, рискуя поскользнуться и получить серьёзную травму.
Тем более они становятся препятствием для автомобилей. А ведь нередко торосы достигают высоты до 1-1,5 м (иногда и гораздо выше)! Но без них Байкал много потерял бы в своей красоте. Торосы – настоящие произведения искусства, словно пришедшие из сказки про Снежную королеву на байкальские просторы. Особенно впечатляют толстые, поставленные вертикально ледяные глыбы, с их голубоватой на цвет толщей, просвечиваемой солнечными лучами.
Становые щели опасны для транспорта; нередко приходится долго искать место, где они сужаются и где их можно преодолеть. В крайнем случае приходится перекидывать через щель доски и осторожно перегонять машину по ним.
В жизни Байкала становые щели играют важную роль. Они компенсируют температурные сужения и расширения льда. Если они замерзают или перестают справляться со своей задачей (что бывает к весне), возникает катастрофическое явление – надвиги льда, когда одно ледяное поле выжимается на другое, либо на берег, и двигается со значительной скоростью (иногда достигающей десятки см в секунду). Надвиг с лёгкостью ломает причальные сооружения, выбрасывает на берег стоящие на зимней стоянке суда. И порою только с помощью взрывов можно остановить разрушительное движение ледяной толщи.
Так как же «разговаривает» Байкал? То раздаётся глухое утробное уханье, словно стон гиганта; то слышится скрип и скрежет от нажимов льда; то хруст, как будто кто-то крадётся по снегу, делая по несколько шагов и затем останавливаясь; и уж совсем жутко становится, когда раздаётся гулкий пушечный грохот и оглушительный треск – это образуется становая щель или её ответвление.
«Вероятно, подобные явления – одна из причин того, что народы, жившие на берегах Байкала, наделяли его таинственными свойствами и боялись могучих проявлений его жизни…» – писал крупный знаток озера М.М. Кожов. Самое сильное впечатление разговоры Байкала производят ночью, в кромешной тьме, когда теряется рациональное мироощущение, особенно если поблизости нет человеческого жилья. И поневоле поверишь в духов, живущих в его глубинах. Если же вблизи вас вдруг пройдёт разлом новой щели, вы вздрогнете не только от пушечного грохота, но и от того, что лёд под вами ощутимо качнёт, как при землетрясении.
Если вы выйдете на лёд в районе посёлка Листвянка, возле мыса Лиственничного, то увидите множество больших и малых белых пузырей, вмёрзших в ледяную толщу. Здесь такие пузыри можно наблюдать каждый год. Лиственничный мыс – одно из мест, где со дна озера выделяются газы.
Будучи само по себе интересным природным явлением, такое газовыделение способно обусловить повышенную опасность при передвижении по льду. Вместе с газовыми пузырями к нижней поверхности льда поднимается более глубинная и несколько более тёплая вода. Она вызывает подтаивание льда снизу и уменьшение его толщины. В местах с обильным газоотделением это приводит в конечном итоге к образованию пропарин – участков тонкого льда, со стороны совершенно неразличимых и потому опасных. Под такой утончённой корочкой к тому же нередко образуется газовая подушка. Заехавшая на неё автомашина моментально проваливается в ледяную воду.
Природа пропарин бывает и иной, но всегда их образование обусловлено подтоком относительно тёплой воды к нижней стороне льда. Пропарины образуются напротив устьев рек, вблизи горячих источников, напротив мысов, огибаемых довольно заметными течениями. Облегчает передвижение по льду знание того, что эти коварные образования появляются почти всегда в одних и тех же местах. Так, практически каждый год наблюдается возникновение пропарин напротив мыса Большого Кадильного, возле дельты реки Селенги, в проливе Ольхонские ворота, над Академическим хребтом, у Ушканьих островов.
И тем не менее каждый год приносит всё новые и новые известия о случаях провала машин под лёд. Часто виной тому простая неосторожность. Хотя бывают и несчастливые случайности.
В 1990 г. в районе мыса Лиственничного провалился на глубину около 40 м бензовоз с прицепом, доставлявший запас дизельного топлива на биостанцию в Большие Коты. Водитель успел выпрыгнуть. Однако несколько тонн горючего должны были рано или поздно неминуемо попасть в Байкал, а течение вынесло бы нефтяное пятно в Ангару. Ситуация складывалась критическая. Были привлечены инженеры, водолазы, техника, чтобы найти способ извлечь автомобиль из воды. И это удалось сделать!
Сначала его подтянули на малую глубину, чтобы избежать опасности падения глубже по крутому подводному склону, а затем вытащили на берег.
Если я вас слишком напугал, то справедливости ради отмечу: байкальский лёд справляется с большими нагрузками на него. Когда Кругобайкальская железная дорога ещё не была построена, поезда перевозились между станциями Байкал и Танхой на судне-пароме, а в 1904 году зимой прямо на лёд были на брёвнах уложены рельсы. Конечно, целиком поезд не мог переехать озеро таким путём. Вагоны расцепляли и по одному перевозили по льду на конной тяге. И лёд выдержал!
С наступлением апреля движение транспорта по льду предписывается прекратить. Лучи весеннего солнца проходят сквозь него, прогревают немного самый верхний слой воды, и толщина льда уменьшается снизу.
Сверху же лёд теряет прочность и «разыгливается» – превращается во множество мелких иголочек. Разыгливание захватывает всё более глубокие горизонты, и лёд становится опасным уже даже для пешеходов.
Вскрытие ото льда начинается с тех участков, где сформировались пресловутые коварные пропарины. Они превращаются в полыньи, затем в широкие разводья, которые соединяются друг с другом. Остатки льдов взламываются ветрами и гоняются по открытой воде в виде ледяных полей, пока не растают. Полное освобождение от ледового покрова происходит на юге озера в мае, а на севере – в первой декаде июня.
Впрочем, есть на Байкале место, не замерзающее круглый год. Это – исток реки Ангары. Здесь ежегодно остаётся огромная полынья открытой воды, окружающая в том числе и знаменитый Шаман-Камень. И связано её существование с тем, что воды, сливающиеся из Байкала в Ангару, несколько теплее точки замерзания. И даже десятых долей градуса выше нуля достаточно, чтобы полынья оставалась незамёрзшей.
Этим пользуются утки, которые в большом числе остаются зимовать здесь, у истока Ангары, отказываясь от перелёта в тёплые страны. Пищи им здесь вдоволь – только не ленись нырять на дно, богатое различными беспозвоночными! А на ночь они улетают в торосы, где укрываются от ветра.
Используют полынью и люди. Часто ли вам приходилось путешествовать водным транспортом… зимой? Вряд ли, если вообще такое случалось. А вот здесь, в истоке Ангары, всю зиму курсирует с одного берега на другой грузо-пассажирский теплоход «И. Бабушкин». Обычно он ходит между портом Байкал и Листвянкой, но с наступлением ледостава, когда листвянские причалы становятся недоступны, начинает швартоваться недалеко от Шаман-Камня, напротив Байкальского экологического музея.
Бывали экстремальные случаи, когда «Бабушкин» и юркий портовый ледокол-буксирчик выручали тех же уток. В некоторые годы при долгих сильных морозах полынья грозилась всё-таки замёрзнуть. Конечно, если бы это и произошло, то ненадолго, но для зимующих водоплавающих исчезновение полыньи даже на несколько дней могло обернуться гибелью.
Но суда своими корпусами разгоняли нарастающий лёд, и на чистую воду за ними тут же садились спасённые птицы.
…Вечер мягко спускается на зимний Байкал. Солнце скатывается за далёкие заснеженные горы, постепенно угасает его багряное закатное зарево. Зажигаются огоньки в избах, сияет на небе Венера – первое, когда нет Луны, из ночных небесных светил. Уходит в неведомую даль бескрайнее ледяное поле, испещрённое местами пятнами вздыбленного битняка, исчерченное неровными линиями торосов. От берега у края темнеющей полыньи отделяется силуэт теплохода; сверкая ходовыми огнями, он берёт курс к возвышающейся напротив горе, у подножья которой лежит старый портовый посёлок, готовящийся к очередной морозной сибирской ночи… «ЭЙ, БАРГУЗИН, ПОШЕВЕЛИВАЙ ВАЛ!»
Далеко не всем известно, что знаменитая народная песня «Славное море, священный Байкал» родилась из стихотворения Д.П. Давыдова «Дума беглеца на Байкале» (1858 г.). Стихотворение, кстати, заметно отличалось от песенных слов. Автор писал о тех чувствах, которые испытывал беглый каторжанин, выйдя на берег Байкала и надеясь после переправы сохранить свою большой ценой добытую свободу. И, видимо, в этой надежде он радостно желал: «Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко!». И отправился в путешествие в омулёвой бочке…
Много ли доплывало их, таких беглецов? Можно быть уверенным:
оказавшись даже не в бочке, а в нормальной лодке посреди Байкала, вы не станете накликать ни баргузин, ни какой-нибудь другой ветер, чтобы он поднимал покруче вал.
Штормов на Байкале бывает много. Особенно осенью. Июнь – обычно самый тихий месяц, ветров ещё мало, да и воды Байкала, только вскрывшегося ото льда, ещё тяжёлые, не прогревшиеся, их трудно «расшевелить». Сравнительно спокойно и в июле. А в августе начинаются регулярные штормы. Волны в этот период поднимаются в высоту до 1,5-2 м, иногда и до 3. Вроде бы не такая уж большая высота. Но байкальская волна заставляет уважать себя; дело в том, что по сравнению с волнами на морях она значительно круче, и любое судёнышко на ней не просто раскачивается, как на качелях, но и может быть довольно легко опрокинуто круто встающим валом. Именно поэтому правила судоходства по Байкалу предписывают обязательно нагружать катера балластом (камнями, железными болванками и т.п.), что повышает осадку судна и его устойчивость. В начале 80-х годов недалеко от бухты Песчаной был опрокинут и быстро затонул катер «Шокальский», неудачно поставленный командой бортом к волне. По имеющимся свидетельствам, катер был без балласта… В сентябре и особенно в октябре неистовство штормов ещё более усиливается; они свирепствуют вплоть до ледостава. Подсчитано, что в открытом Байкале с октября по ноябрь более половины дней – штормовые.
Ветры дуют почти постоянно, сменяя один другой. Вода, более-менее прогретая в верхних слоях за летний период, легко поднимается в валы, и высота их достигает уже 4 м (иногда пяти и – в редчайших случаях – даже шести метров). Именно в период осенних штормов интенсивно формируется береговая линия во многих районах Байкала, намываются каменистые и галечные пляжи, разрушаются основания мысов.
Помнится сильный многодневный шторм в сентябре 1984 года. Пережить его мне пришлось на крупном пассажирском пароходе «Комсомолец», ходившем в то время по Байкалу. Тяжёлое судно морского типа подбрасывало, как жалкую лодку. Громадные, свинцового цвета валы катились по-океански величественно, и корабль был в их власти. Судно ненадолго укрылось в бухте Пещерка у Большого Ушканьего острова, чтобы повара смогли приготовить ужин, а обед до этого раздавали сухим пайком.
Многим туристам было плохо. Ещё накануне некоторые из них самоуверенно говорили: Байкал не море, здесь сильно раскачать не может. И Байкал сейчас жестоко убеждал их в том, как они были неправы.
Когда ветер стихает, волнение не унимается сразу. Волны уже не растут, не образуют белых барашков на своих верхушках, но по-прежнему идут, растягиваются в длину и округляются, интервал между валами становится до нудного равномерен. Это мёртвая зыбь, которая и на Байкале, и на океанах доставляет немало страдания людям, тяжело переносящим качку. Даже не крутой штормовой вал, а именно затихающая зыбь вызывает наиболее сильные приступы морской болезни. Судно на зыби не подбрасывает, а плавно, равномерно раскачивает.
Не менее важно то влияние, которое оказывает волнение на сами водные массы. Волновое перемешивание может вызывать выравнивание температуры в верхних слоях воды и её похолодание у самой поверхности.
Штормовой ветер может вызывать сгоны и нагоны воды. Скажем, дует горная с западного берега и угоняет прогретые поверхностные воды к берегу восточному. И в итоге у западного побережья поднимаются к поверхности холодные глубинные воды. И это сразу чувствуется теми, кто находится у воды: похолодало.
Но оказывается, что волны могут быть и… стоячие. Называются они сейшами и возбуждаются при ветровых сгонах и нагонах вод. При этом процессе уровень воды падает у одного берега и повышается у другого. Затем неизбежно следует компенсирующее выравнивание уровня – и так несколько раз, благодаря чему вся поверхность Байкала колеблется в волновом ритме. А период полного колебания сейши составляет от одного до нескольких часов. Вызываются стоячие волны также разницей атмосферного давления над различными участками озера и подводными сейсмическими толчками. Существуют сейши даже зимой, подо льдом.
И наконец, в Байкале наблюдаются приливы и отливы. Разумеется, они не достигают такого размаха, как в морях, и обычно совершенно незаметны для глаз, поскольку величина колебаний уровня при этом составляет всего 2-3 см. Но они имеют ту же самую природу, что и морские приливы и отливы, а именно – взаимодействие силы гравитационного притяжения Луны с таковым Солнца.
Все описанные здесь явления оказывают прямое или опосредованное влияние на характер течений в водной массе Байкала.
В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТАЕТ
Такое случалось порою в прежние времена: жертвы морских кораблекрушений, оставшиеся в живых и выброшенные на необитаемый остров, писали послание, наглухо запечатывали его в бутылку и бросали в океан.
Морские течения подхватывали «почтовое отправление» и уносили его.
Несчастные не знали, куда уплывёт бутылка и как скоро её кто-нибудь обнаружит. Но отправленное по волнам письмо давало им надежду на спасение.
Позднее, когда стали изучать морские течения, выяснилось, что их направления более или менее постоянны, и потому уже можно было заранее предугадать, из какого пункта «А» в какой пункт «Б» они доставят бутылочную почту.
Течения открыты и на Байкале. И подобно морским водным потокам, их направления достаточно постоянны, хотя иногда и могут временно изменяться.
О Байкале нередко говорят: самое большое в мире хранилище пресной воды. И это правда; но сами слова «хранилище», «хранить» подразумевают нахождение сохраняемого предмета в неприкосновенном, неподвижном, неизменном состоянии. Байкал – не хранилище в таком смысле слова. Скорее он напоминает живой организм: динамичный, работающий, внутренне в чём-то меняющийся. И подобно крови по сосудам, движутся в нём потоки воды в определённых направлениях.
Течения бывают самые разные: поверхностные, глубинные, горизонтальные, вертикальные… И вызываются они разными причинами – действием ветров, перепадами в атмосферном давлении, влиянием впадающих в озеро рек, да и вращением нашей голубой планеты в целом. В итоге выявляется картина, которую наносят стрелками на карту.
Какая же эта картина для поверхностных течений Байкала? Оказывается, большую часть года поверхностные воды озера циркулируют вдоль его берегов против часовой стрелки. Это циркуляция циклонического типа.
Вдоль восточного берега медленный поток воды движется с юга на север, а вдоль западного – наоборот, с севера на юг. И лишь при сильных и длительных встречных ветрах направление может меняться на противоположное.
Если вы идёте на катере вдоль западного берега у северной оконечности озера (а именно – вдоль проложенного по берегу участка БайкалоАмурской железной дороги), то вы воочию увидите, что воды здесь более мутные, более рыжеватые, чем обычно они бывают в Байкале. Реки Кичера и Верхняя Ангара, выйдя из цепей горных хребтов, в конце своего пути протекают по пологим и болотистым местам, собирают более мутные и более тёплые воды и впадают в самый северный конец Байкала. Эти воды не смешиваются сразу с озёрными, а увлекаются вдольбереговым течением на юг. И такой полосой прослеживаются ещё около 40 километров. В то же время совсем рядом с устьем Верхней Ангары, в губе Дагарской у восточного берега озера, вода прозрачная и чистейшая – типично байкальская.
Она «подтягивается» сюда течением с юга, а речные воды в этот район почти не попадают.
Так что можно быть достаточно уверенным: если бросить бутылку с посланием в воды Байкала у западного берега, то искать её через некоторое время надо будет на юге озера, а если сделать то же самое у берега восточного, то наиболее вероятно, что она будет поймана на севере.
Схема поверхностных течений в Байкале.
Рис. В.И. Верболова
дает накопление (или аккумуляция), – и условия существования заметно лучше, и количество животных побольше.
С транспортировкой наносов при помощи течений должны считаться и люди. Неудачно построенный причал, оказавшийся на магистральном пути таких переносов, будет служить недолго. Или, во всяком случае, будет доставлять немало хлопот. В считанные годы или даже месяцы пристань будет замыта песком и гравием, и суда попросту не смогут к ней подходить.
Мы уже говорили, к примеру, что такая участь постигла пирс Маломорского рыбзавода, что находится в рыбацкой «столице» Ольхона – посёлке Хужир. Гавань постоянно заполняется песком и сильно мелеет; не однажды уже приходилось углублять её, вычерпывая песок. А природа всё равно делает своё дело – замывает причал вновь.
Помимо характерных круговых циркуляций, на Байкале известны также несколько «магистральных» течений. Довольно сильное течение наблюдается в узком проливе Ольхонские ворота; там вода постоянно выходит из Малого Моря в море «большое», и даже легшее в дрейф судно в этом проливе ощутимо сносит. Видимо, потому донное население Ольхонских ворот очень своеобразно; здесь под влиянием постоянного течения возникли даже свои местные эндемичные виды.
Очень известно также Селенгинское течение: впадающие в Байкал воды Селенги направляются в большинстве своём прямиком к истоку Ангары и, таким образом, не задерживаются в Байкале надолго: выносятся в Ангару за пару недель. И потому можете отправлять бутылочную почту из устья Селенги в район Листвянки или порта Байкал: течение доставит её именно по этому адресу.
Течения поверхностные – это, как говорится, лишь видимая часть айсберга. Не менее активно воды перемещаются и в глубинах озера. Свидетельства тому – характерные знаки ряби, «барханчики» на песке, отчётливо видимые на подводных фотографиях. Проводились и измерения подводных течений специальными приборами. Как правило, они также незначительны по скорости — несколько сантиметров в секунду. Но иногда они достигают десятков сантиметров и даже более одного метра в секунду!
Настоящие подводные реки! В районе Академического хребта, на глубине 50 м отмечена скорость подводного течения 146 см/с.
Были открыты и вертикальные циркуляции вод в Байкале. Они охватывают обычно какую-то определённую зону глубин, до границы так называемого температурного скачка. Скачок этот заключается в резком понижении температуры в очень небольшом интервале глубин. Выше и ниже слоя скачка температура вод изменяется плавно и незначительно. Слой температурного скачка возникает при летнем прогревании поверхностной воды, затем постепенно погружается вглубь, но никогда не пересекает отметки глубин 250 м. И циркуляции вод в слоях выше и ниже температурного скачка совершенно независимы друг от друга! Словно мы имеем дело не с одним, а с двумя разными водоёмами, лежащими один на другом, подобно разным слоям в слоёном торте. В основном циркуляции в верхнем (до температурного скачка) «озере» непосредственно отзываются на действие ветров и возбуждаемых ими волн; движение вод в нижнем «озере»
(водная масса, лежащая глубже температурного скачка) вызывается, видимо, другими, до конца не понятными причинами.
ХОЛОДНАЯ ВОДА – ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ БАЙКАЛА
Упомянув о связи течений с температурными условиями, мы должны теперь рассказать о последних более подробно. Тело нашего суперорганизма, каковым можно представить Байкал, имеет не только свои «кровеносные сосуды» – течения, но и необходимую для его жизни температуру.
Для нашего тела, как вы знаете, нормальная температура – 36,6 градусов.
А сколько составляет норма для Байкала?
На берегах нашего пресного моря быстро остывает пыл желающих искупаться. И летнее солнце светит ярко, и пляж не хуже, чем на всемирно известных курортах, и ленивая волна ласково лижет его кромку… Но – брр-р! Окунёшься – и пулей назад! Это вам не Сочи! Водичка-то холодная!
В открытом Байкале даже в самое тёплое время – в августе – вода чаще всего прогревается не более, чем до 12-15 градусов. И то это лишь в самом верхнем слое. Чем глубже – тем холоднее. И тем меньше выражены сезонные изменения температуры. А вот на глубинах свыше 250 м (опять эта магическая для Байкала граница – 250 м!) в течение всего года температура практически неизменна и колеблется лишь в пределах от 3 до 4 градусов. И именно данное обстоятельство, как мы сейчас увидим, позволяет Байкалу оставаться именно Байкалом, сохранять чистоту своих вод и давать приют живым организмам вплоть до максимальных глубин.
Если несколько дней летом стоит штиль и тёплая погода, верхний слой воды нагревается, и устанавливается стратификация – расслоение вод, причём верхние тёплые и более глубокие холодные слои не перемешиваются, пока не ударит сильный шторм и не смешает разделившиеся слои. Но даже в этом случае происходит постепенное прогревание водных масс в первых десятках метров. Прогревание охватывает всё большие глубины, и отделяются прогретые воды от непрогретых слоем температурного скачка, о котором мы уже упоминали. Слой этот продвигается всё глубже, но перепад температур в нём постепенно уменьшается. Достигнув глубины 200-250 м, скачок окончательно исчезает, «растворяется», а сезонное прогревание глубже просто не идёт. Так единое озеро расслоилось на два «водоёма», воды которых почти не перемешиваются друг с другом. Уже упоминавшийся Г.Ю. Верещагин назвал верхний из них альтернирующей зоной, а нижний – переннирующей.
Такое расслоение существует долго, но не вечно. К зиме оно непременно разрушается. К октябрю вода у поверхности остывает до 6-7 градусов, а к ноябрю – декабрю уже до 3-4. Температура воды в Байкале выравнивается абсолютно по всей толще, вплоть до максимальных глубин. Наступает так называемая гомотермия – важный этап в жизни озера.
Удивительная жидкость – вода. При охлаждении она сжимается, но незадолго до точки замерзания (равной, как мы знаем, нулю градусов) вдруг начинает снова расширяться. И приходится этот порог на отметку 4 градуса. Именно при этой температуре вода имеет наибольшую плотность, то есть она при ней самая «тяжёлая». А всё тяжёлое, разумеется, тонет.
И вот поверхностная вода, остывшая до 4 градусов, становится тяжелее более глубинной воды, и начинает «тонуть». А в порядке компенсации воды с больших глубин (они при температуре 3 градуса менее плотные и более лёгкие) «всплывают» и устремляются к поверхности. Происходит водообмен поверхностных водных масс с глубинными. А вместе с погружающейся вглубь водою на большие глубины доставляется кислород, необходимый для жизни обитающих там организмов!
Гомотермия наблюдается на Байкале не один, а два раза в год. Второй раз это случается в июне, когда поверхностные воды после вскрытия ото льда прогреваются от 0 до 4 градусов и достигают той же самой «пороговой» температуры. И снова – водообмен по всей толще, и снова – обогащение больших глубин кислородом. И так ежегодно.
Байкалу крупно повезло именно в том, что он находится в умеренной климатической зоне. Если бы он находился южнее, в зоне жаркого тропического климата, поверхностная вода его всегда была бы тёплой, и стратификация вод никогда не разрушалась бы. А это значит, что водообмен и, как следствие, насыщение глубинных вод кислородом, были бы просто невозможны.
Такая участь постигла другое древнее великое озеро – Танганьика.
Лежит оно в Африке; очень, между прочим, похоже на Байкал – и по возрасту, и по происхождению, и по наличию огромных глубин (свыше 1400 м), и даже во многом по внешним очертаниям. Но глубоководье Танганьики безжизненно. Оно заражено ядовитым газом – сероводородом, растворённым в воде. Сероводород возникает неизбежно при нехватке кислорода вследствие неполного разложения органических остатков. Гомотермии на Танганьике никогда не бывает, верхние слои воды всегда тёплые – не менее 20 градусов. И нет потому обогащения глубинных вод кислородом.
Вся разнообразная жизнь в этом озере сосредоточена лишь на первых десятках метров глубины.
Да что нам далёкая Танганьика – с тёплым Чёрным морем произошла та же история! Сероводородное заражение и безжизненность на глубинах свыше 100 м. Плохой водообмен и недостаток кислорода и тут сделали невозможной жизнь глубоководной фауны. К тому же ситуация в последние годы усложняется благодаря загрязнению этого моря. Кислород расходуется на разложение загрязняющих веществ, и его нехватка становится всё ощутимее и на меньших глубинах. Уже отмечен подъём сероводородной зоны и возникновение отдельных заражённых пятен на небольших глубинах. А что будет, если сероводород поднимется ещё выше, страшным ядовитым мором пройдёт по богатым прибрежным донным сообществам, обречёт в результате рыбные стада черноморья на бескормицу? Случится экологическая катастрофа.
А вот Байкалу такая опасность не угрожает. Это не значит, конечно, что его можно безнаказанно загрязнять и гробить. Но надо отдать ему должное: в его пучинах заключена колоссальная живительная, очищающая сила. Не потому ли он очищает не только воду, но и души людей от скверны.
Ну, а для желающих искупаться всё-таки скажу кое-что обнадёживающее. В байкальских бухтах, в приустьевых участках рек в отдельные годы с особо тёплым летом температура может подниматься до 17-19 градусов. Достаточно комфортно и приятно; а людям привычным вообще в эту пору подолгу из воды неохота вылезать.
Правда, прогреваясь до такой степени, данные участки временно как бы вообще перестают относиться к Байкалу. Потому что это не та температура, к которой приспособлены коренные байкальские обитатели. Они на время покидают зону тёплых вод, и в неё ненадолго, но в массе внедряются организмы, характерные для мелких озёр со стоячей водой.
Ну, а в мелководных и глубоко укрытых от влияния открытого моря участках – сорах, заливах (например, в Чивыркуйском заливе) – летние температуры могут быть и вовсе курортными: до 25 градусов. Ловите момент, не опоздайте!
ТАИНСТВЕННОЕ СВЕЧЕНИЕ ГЛУБИННЫХ ВОД
Свет – первейший источник жизни на Земле. Благодаря энергии Солнца существуют зелёные растения, а за счёт их – все животные планеты. Свет достигает земной поверхности, проходя десятки километров через нашу атмосферу. Но возможности проникновения света сквозь водную толщу весьма ограничены. В первых же сантиметрах теряются красные лучи. Поэтому водолазы при погружениях в чистые воды Байкала видят всё вокруг в голубовато-зелёных тонах. А на глубинах свыше ста метров видимость уже практически исчезает. Правда, убедиться в этом можно лишь со специального подводного аппарата, поскольку водолазам в Байкале такая глубина недоступна. На больших глубинах – царство вечной тьмы.
Впрочем, так ли это на самом деле? Известно, что в глубоководных областях океанов встречается немало светящихся организмов или имеющих светящиеся органы. У многих хищников, обитающих на этих глубинах, такие «фонарики» служат для привлечения добычи. В излучающих свет органах живут многочисленные светящиеся бактерии, вырабатывающие световую энергию в результате химических превращений.
Светящиеся бактерии могут обитать и свободно; так сказать, сами по себе. Вместе с некоторыми видами водорослей и мельчайших одноклеточных животных они создают в морях тёмными ночами общее свечение воды даже в самых поверхностных её слоях. Наблюдается оно, конечно, далеко не всегда и не везде; нужны определённые условия. Мореплаватели прошлого считали ночное свечение воды плохой приметой. К тому же светящиеся микроорганизмы, потревоженные движениями воды, нередко начинают светиться интенсивнее, и при наличии на поверхности моря слабого волнения или ряби живой свет начинает играть и переливаться. «Колёса морского дьявола» – такое название было дано этому явлению суеверными моряками. Тот же эффект вызывается идущим ночью по морю судном, когда за его кормой в линиях расходящихся волн начинает играть таинственный свет.
В Байкале такое явное свечение вод никогда не наблюдалось. И вообще оно до недавнего времени считалось свойственным лишь морским водоёмам. Но когда стали использовать приборы, регистрирующие даже очень слабое световое излучение, обнаружили, что байкальская вода всётаки светится!
Это свечение невидимо человеческому глазу. Его интенсивность невелика. Но интересным оказалось то, что эта интенсивность меняется!
В изучении явления свечения глубинных вод Байкала помогли, как это не странно, ядерные физики. Задумали они установить в Южном Байкале нейтринный телескоп. Нейтрино – это элементарная частица, по размерам мельче атома (если вообще можно применять слово «размер» к такого рода объектам), которую можно назвать частицей-невидимкой. Космические по длине расстояния она способна пролетать, никак не обнаруживая себя, не сталкиваясь ни с одним атомом, ни с какой другой частицей. Только большая водная толща, какая и имеется в Байкале, способна изредка «поймать» нейтрино. И когда оно сталкивается с атомами воды, выделяется, говоря физическим языком, квант света; а говоря проще, элементарный световой «лучик». В нейтринном телескопе находились крайне чуткие регистраторы, способные отмечать подобные, на уровне микромира, световые «вспышки». Располагались датчики и на глубине 1000 метров.
Казалось бы, на таких отметках, куда не проникает ни единого солнечного луча, должна быть идеальная темнота для проведения эксперимента по «охоте» на нейтрино. Не тут-то было! Приборы показали, что байкальская вода прямо-таки сияет своим естественным, нигде не заимствованным светом. Повторюсь ещё раз: мы не увидели бы это свечение с помощью наших глаз. Но для сверхчутких приборов оно просто ослепительно.
И это природное свечение несколько раз в течение суток то слабело, то «разгоралось» с новой силой. Учёные сделали вывод, что через телескоп прогоняются глубоководными течениями объёмы воды, характеризующиеся разной активностью неведомого пока источника излучения. Было получено ещё одно доказательство, что вода в пучинах Байкала не стоит на месте; она постоянно перемещается, и пути этих перемещений ещё предстоит изучать.
Но не менее жгучей загадкой оказалась природа этого свечения. Что же светится в Байкале? Может быть, как и в морях, это светящиеся бактерии? Или же излучение вызывают химические превращения веществ, происходящие непосредственно в самой воде? Сейчас, когда я пишу свою книжку, пока нет ответа на этот вопрос. При попытках исследовать глубинную воду в лаборатории она перестаёт светиться вскоре после подъёма её на поверхность. Конечно, в ней обитают микроорганизмы. Но не удалось пока что доказать, что свечение вызывают именно они.
А может быть, разгадка лежит на другом уровне миропонимания, вовсе не в области науки? Может быть, Байкал – это действительно огромный, активно живущий и даже мыслящий суперорганизм, лежащий в своём ложе среди горных цепей? И свечение – это замеченное людьми свидетельство его жизни, его, если угодно, мыслительной деятельности? А перемещающиеся в виде течений водные массы – это информационные потоки, перерабатываемые такой вот необычной разумной материей.
Да, есть и такие предположения. Но наша книжка посвящена прежде всего научным знаниям о Байкале. И поэтому пришла пора перейти к тому, что же наука выяснила о живых организмах – обитателях байкальских вод.
ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР БАЙКАЛА: ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ
Перевёртывая дальнейшие страницы нашей книжки, вы познакомитесь подробнее со многими интересными представителями живой природы Байкала. А сейчас обрисуем лишь самые общие её особенности, отметив попутно, что животный мир носит краткое название «фауна», а мир растений – «флора».
Есть, впрочем, в природе такие организмы, которые трудно отнести к животным или растениям. Состоят они обычно всего лишь из однойединственной клетки и потому видимы лишь под микроскопом. Но нам нужно определиться, поскольку и в Байкале обитают подобные «промежуточные» формы. А определимся мы вот как. Известно, что только растения способны к фотосинтезу — процессу усвоения углекислого газа и выработки кислорода под воздействием солнечного света. И потому будем считать так: если какой-то мельчайший организм способен хотя бы немного к фотосинтезу, то он относится к растительному миру – флоре. Если же он никогда и ни при каких условиях не может заниматься фотосинтезом – он из мира животных, представитель фауны.
Итак, первая особенность и флоры, и фауны Байкала – их огромное разнообразие. Было подсчитано, что в настоящее время в озере отмечено свыше 2500 видов животных и примерно 1000 видов растений. Заметьте, речь идёт только о водных животных и растениях; наземные, обитающие на берегах Байкала, тут не в счёт!
И тем более замечательным оказывается то, что очень и очень многие виды из названного числа встречаются только в Байкале, и больше – нигде на свете! Виды, обитающие только в одном каком-то месте на планете, называются эндемиками. Так вот, в открытом Байкале (не считая его хорошо обособленных бухт и соров), по некоторым данным, 40% видов растений – его эндемики. А среди животных цифра ещё внушительнее – аж 85%!
Высокий уровень эндемизма – это вторая замечательная особенность байкальской фауны и флоры. Её значение трудно переоценить. Каждый вид живого организма несёт в себе только ему одному свойственный наследственный багаж, который он передаёт своему потомству. В этом багаже – множество генов, в которых в виде химической структуры наследственного вещества закодированы все присущие данному виду внешние и внутренние особенности, все разнообразные химические соединения, вырабатываемые организмом в ходе своей жизнедеятельности. В наше время специалисты – так называемые генные инженеры – научились переносить гены из одного организма в другой и встраивать их в наследственный аппарат последнего. И организм, получивший новые гены, начинает вырабатывать вещества, в норме имевшиеся у того вида, у которого были взяты гены. Так, к примеру, люди «заставили» бактерию кишечную палочку, выращиваемую в лабораториях, вырабатывать инсулин – важное вещество, участвующее в обмене веществ у человека. И выработанный бактериями человеческий инсулин стали применять в виде препарата для больных, у которых нарушена выработка собственного инсулина.
Но это только начало. Поистине огромные возможности открываются перед генной инженерией будущего. А сейчас перед нами стоит крайне важная задача: сохранить для этих будущих времён богатейшее собрание (банк) генов, носителями которых являются обитающие в Байкале эндемики. Будем помнить – с исчезновением каждого из этих видов (по нашей ли вине или по естественным причинам) для нас закрываются возможности, которыми мы смогли бы располагать в будущем. И мы можем гордиться тем, что именно у нас здесь, в водах Байкала, находится богатейший природный банк генов, которых больше не найти нигде на планете.
Третья особенность флоры и фауны Байкала напрямую связана с её высоким эндемизмом. Это так называемая несмешиваемость. А именно – байкальский животный и растительный мир не смешивается (точнее, почти не смешивается) с таковым большинства расположенных в Сибири водомов: речек, ручьёв, мелких озёр. Загадка несмешиваемости долго заставляла учёных ломать головы. Действительно, почему обитающие во всех сибирских водоёмах, самые банальные организмы не вселяются в Байкал?
Почему в Байкале (в открытых его частях с типично «байкальскими» условиями) не обитают подёнки и веснянки, личинки стрекоз и водяные клопы
– те группы животных, которые свойственны большинству сибирских речек или озёр? А те группы, которые населяют и Байкал, и эти упомянутые водоёмы, представлены совершенно разными видами; например, водяные клещи, моллюски, планарии… Обычный для очень многих озёр и знакомый всем аквариумистам в качестве рыбьего корма гаммарус, или озёрный бормаш, не встречается в открытом Байкале. Пробовали его держать в Байкале в специальных садках – он в них жить-то жил, но не захотел размножаться. Зато в байкальских условиях огромное множество своих, эндемичных гаммарусов (или бокоплавов, как их ещё называют).
И почему, с другой стороны, байкальские формы не хотят проникать в подходящие, на первый взгляд, для их жизни водоёмы? В иных ручьях и речках вроде бы и вода холодная, как в Байкале, и кислорода вполне хватает, и кормовые условия хорошие. Но нет, не живут в них байкальцы. А если их туда искусственно вселить, то подавляющее большинство видов не выдерживает подобного переселения и быстро погибает.
Ради истины отметим: есть исключения из правила. И барьер несмешиваемости не всегда неприступен. Некоторые виды байкальских гаммарид и моллюсков выселились в реку Ангару, спустились вниз по её течению, дошли до Енисея, а отдельные виды гаммарид – даже до его устья у берегов холодного Карского моря. Единичные выходцы из Байкала встречаются в озере Таймыр, в ряде озёр в районе Норильска. Когда-то, очевидно, Енисей менял своё русло и занёс этих эмигрантов в располагавшиеся по тогдашнему течению озёра. Да и в Байкал некоторые виды из других водоёмов всё же вселяются. Примером тому – моллюски прудовики (овальный, уховидный), проникшие в Байкал сначала в приустьевые участки некоторых рек, а затем начавшие потихоньку «расползаться» в ближайшие от речных устьев окрестности.
Но всё это – именно исключения. Контраст в населении Байкала и окружающих его водоёмов очень разительный и бросается в глаза при самом первом сравнении.
В настоящее время стало очевидным, что бесполезно искать какуюлибо одну-единственную причину, объясняющую явление несмешиваемости. Причин этих много. Несомненно, важную роль играет стабильность условий обитания в Байкале. В нём не бывает таких резких колебаний температуры в течение суток, какие наблюдаются летом в мелководных водомах; стабилен в Байкале и состав растворённых в воде газов, в нём не бывает заморов (сильной нехватки кислорода), случающихся нередко в зимнее время в малых озёрах, наглухо закрытых ледяным панцирем.
Но не менее важное значение имеют причины, зависящие от самих живых организмов или, говоря научным языком, биотические факторы.
Дело в том, что организмы живут не каждый сам по себе, а образуют «притёртые» друг к другу сообщества. Они могут жить только вместе, только так, как жили долгое-долгое время. Важны тут и пищевые взаимосвязи, и химические взаимодействия организмов («переговоры» их друг с другом посредством выделяемых химических молекул). Вырванный из сообщества один из его членов быстро гибнет в компании чужаков – в чуждом ему сообществе. И точно так же видам-«сибирякам» непросто внедриться в давно сформированные байкальские сообщества.
Говоря о несмешиваемости, надо помнить, что она характерна для организмов открытого Байкала. У озера имеются участки, хорошо укрытые от влияния открытых вод, сильных штормов и к тому же значительно прогревающиеся летом. Это мелководные заливы, в том числе соры, о которых мы уже упоминали. Чисто географически эти участки относятся к Байкалу, но на деле Байкалом не являются: по своему температурному и химическому режиму, по составу водного населения они очень похожи на мелководные озёра, коих немало по Сибири. Байкал лишь оказывает на них какое-то (причём незначительное) воздействие – и не более того.
Но и на примере соров мы иногда видим, как организмыбайкальцы» пытаются преодолеть барьер несмешиваемости. Зимой, когда вода в сорах сильно остывает, в них заносится типично байкальский планктон с рачком-эпишурой во главе. Как только начинается летнее прогревание, он исчезает, сменяясь обычными сибирскими планктонными формами: дафниями, неэндемичными циклопами и др. А некоторые организмы (отдельные виды гаммарусов) образуют в сорах особые разновидности, имеющие уже и заметные внешние отличия от типично байкальских форм.
Четвёртая особенность, свойственная байкальской фауне – это населённость животными абсолютно всех глубин Байкала, вплоть до максимальных (о растениях тут речь не идёт, поскольку они могут обитать лишь в верхних слоях воды, где имеется достаточное солнечное освещение), и наличие уникальной, единственной в своём роде пресноводной глубоководной фауны. Действительно, наличие глубоководных обитателей – это характерная черта морей и океанов. В пресных водах они нигде неизвестны, кроме Байкала. И не только потому, что пресных глубоководных озёр на планете очень мало. Почему же ещё? Думаю, вы догадались, прочитав одну из предыдущих глав. Дважды в год наступает на Байкале гомотермия, обеспечивает перемешивание вод по всей толще и обогащение их кислородом. Благодаря этому и появилась возможность существования жизни на больших глубинах. А в той же африканской Танганьике на больших глубинах — застой вод и вызванный им сероводородный замор.
Пятая особенность байкальской фауны и флоры – наличие в ней гигантских и карликовых форм. Пресноводные водоросли драпарнальдии обычно имеют размеры кустиков самое большее в несколько сантиметров.
Байкальские виды достигают 30 см в высоту! Ещё замечательнее пример с донной водорослью тетраспорой цилиндрической. Её слизистые колонии достигают в Байкале высоты до метра и более! Среди животных также имеются гиганты. Глубоководная хищная планария байкалоплана достигает 30 см в длину в вытянутом состоянии, в то время как небайкальские пресноводные планарии – «ростом» всего около сантиметра, а то и мельче!
Глубоководные гаммариды, обитающие в придонном слое воды, могут достигать до 5-9 см в длину, не считая их огромных усов (у некоторых обитателей больших глубин усы более чем в 3 раза превышают длину самого тела). Байкальские губки вырастают до размеров человеческого роста.
Карликовые формы известны среди улиток, гаммарусов и других организмов. Нередко виды-карлики возникают также в глубоководной зоне, где они выискивают себе пропитание в верхнем слое грунта. Можно предполагать, что причина их измельчания — в недостаточной обеспеченности пищей. Но, вероятно, и не только в этом. Некоторые байкальские организмы идут очень интересным путём: у них выработалась карликовость, свойственная лишь самцам, тогда как самки имеют нормальные или даже крупные размеры.
Недавно открытый карликовый моллюск Ярославиелла. Высота раковинки – 2-3 мм. Рис. Т.Я. Ситниковой.
Явления байкальского гигантизма и карликовости не объяснены окончательно и по сей день. Ясно одно – что в Байкале, в отличие от большинства других пресноводных водоёмов, настолько разнообразны условия обитания, или экологические ниши, что подходят для жизни «и мала, и велика».
Назовём, наконец, ещё одну – шестую – особенность байкальской фауны и флоры. Они активно развиваются в настоящее время, как развивались в ходе всей истории гигантского озера. В Байкале активно идёт эволюция организмов. Недаром учёные сравнивают его с природной лабораторией по изучению процесса образования новых видов. Отмеченное выше огромное богатство видов не может быть результатом свершившегося когда-то простого заселения озера уже существовавшими формами (хотя была и такая точка зрения; дескать, в самом Байкале ничего нового не возникало, а его богатый органический мир сформировался благодаря многократному вселению обитателей).
Конечно, живут в озере и такие организмы, которые сохранились в неизменном виде со времени своего вселения в него; более того, они повсеместно вымерли в окружающих водоёмах, оставшись лишь в Байкале.
Такие формы учёным известны; они имеют общее название «реликты», что означает «остатки». Остатки каких-то древних фаун и флор, широко распространённых в прошлом, но сохранившиеся к нынешнему моменту лишь в отдельных местах – убежищах.
Но всё-таки большая часть населения Байкала возникла в нём самом, а число первоначальных вселенцев было сравнительно небольшое. И в настоящее время в кристальных водах великого озера продолжают возникать новые виды. А специалисты имеют уникальную возможность изучать этот процесс.
В очень немногих озёрах земного шара идёт подобная же активная эволюция обитателей, как в Байкале. Всё это – так называемые древние озёра, возраст которых не менее 100 тысяч лет. К ним можно отнести озёра Танганьика и Ньяса в Африке, Охрид на Балканском полуострове, Бива в Японии, Титикака в Южной Америке и некоторые другие. Значит, древность водоёма, длительность его существования – это необходимое условие для эволюции его растительного и животного мира. Другое столь же необходимое условие – относительное постоянство условий обитания, как в течение года, так и в ходе исторического времени.
Организмы, населяющие мелкие и недолговечные озёра, в своей эволюционной стратегии стремятся достигнуть одной единственной цели – возможности выжить. Нужно быть приспособленным к резким колебаниям температуры, к зимним заморам, а нередко даже к полному промерзанию или высыханию водоёма. Всё – для переживания неблагоприятных условий! Погибнут взрослые организмы – должны остаться жизнеспособными их покоящиеся яйца, почки, споры или цисты. Тут уж не до творчества природе.
В глубоких древних озёрах задача постоянной борьбы с внешними условиями за элементарное выживание не стоит. И организмы имеют возможность идти по самым разнообразным эволюционным путям, осваивая то большое разнообразие условий обитания, которое предоставляет им озеро. И фауна со флорой отвечают бурным эволюционным взрывом; даже научный термин есть такой – взрывное видообразование.
Итак, в древних озёрах нет такой жёсткой выбраковки неприспособленных к экстремальным внешним условиям организмов, как в озёрах мелких и короткоживущих. Иными словами, в них ослабевают естественный отбор и борьба за существование. И при этом идут бурные эволюционные процессы.
Увы, многие учёные-биологи даже не сомневаются в правоте английского натуралиста XIX века Чарлза Дарвина, утверждавшего, что в природе эволюция идёт благодаря именно естественному отбору (выбраковке неприспособленных) в беспощадной борьбе за выживание. А похоже, что зря. Конечно, Дарвин был выдающимся учёным. Но Байкал и другие древние озёра, похоже, не подтверждают, а опровергают его идею. Напряжённейшая борьба за существование несовместима с пышным эволюционным расцветом.
Современную эволюционную теорию, освобождённую от многих старых догм, ещё только предстоит построить. И изучение живой природы Байкала будет играть в этом не последнюю роль. Хотите внести свой вклад
КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ (КОЕ-ЧТО ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ БАЙКАЛА)
А начиналось познание великого озера с той далёкой уже поры, когда Сибирь становилась частью России. Семнадцатый век. С запада на восток шли казачьи отряды. Шли через таёжные дебри, преодолевали бесчисленные малые и крупные реки, добывая пропитание охотой и рыбалкой.
Упорно продвигались всё дальше навстречу восходящему солнцу, чтобы прибавить государству новые, ещё неисследованные, но богатые природными дарами земли. Не было на этом пути ни городов, ни русских деревень. И дорог никаких не было. Лишь поселения местных народов с их старинным укладом, совершенно не похожим на русский. Всё было впервые. И каждая верста на этом пути приносила новые открытия.
И вот настал тот день, когда казаки впервые вышли к Байкалу. Нам, наверное, сейчас очень трудно понять, как они были поражены. Огромные скалы, величественные утёсы. И чистейшая пресная вода… Целое море воды. Воистину море – конца и края не видно! И не везде по берегу пройти можно: нередко прямо к воде подступают скальные прижимы. Надо валить лес, строить суда. И лишь затем – на вёслах или же под парусом – вперед, вдоль величественных берегов!
Источник